
Раз в четырехлетие в феврале прибавляется 29-е число, а с високосным годом связано множество примет – как правило, запретных, предостерегающих: нельзя, не рекомендуется, лучше перенести на другой...

Продолжаем публикации к Международному дню театра, который отмечался 27 марта с 1961 года.

Юрий Дмитриевич Куклачёв – советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. Народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола...
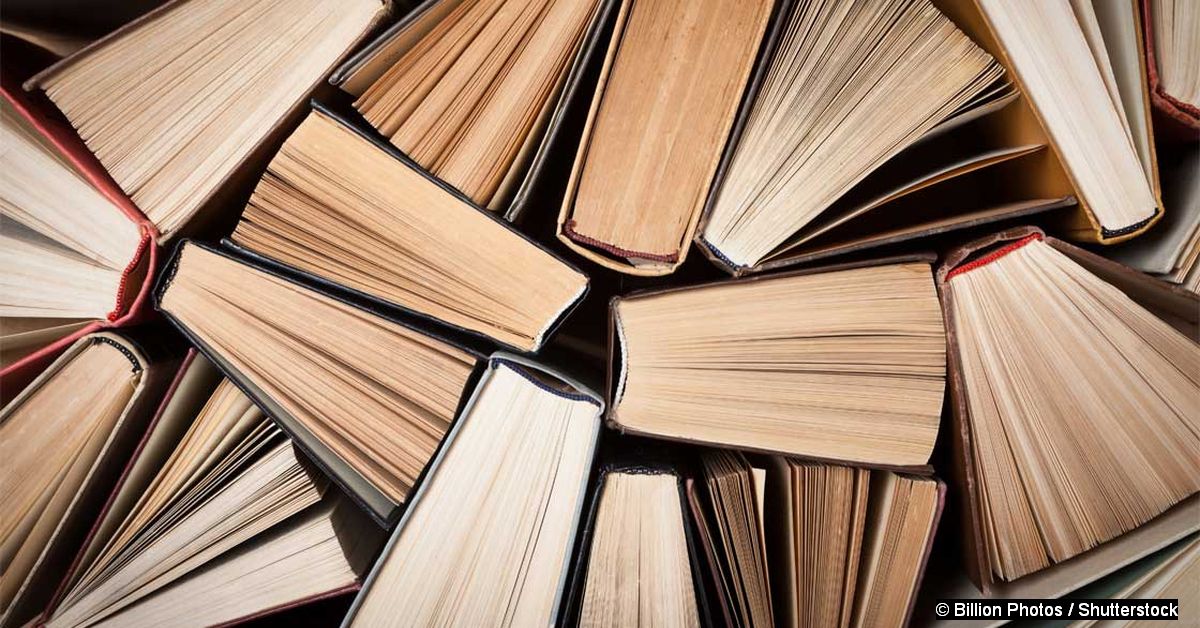
Пассажирка стрекочет неумолчно, словно кузнечик на лугу:

Елена Викторовна Жилкина родилась в селе Лиственичное (пос. Листвянка) в 1902 г. Окончила Иркутский государственный университет, работала учителем в с. Хилок Читинской области, затем в...
«Иркутские истории» Часть 1 (1904-1906 годы) главы с 1-69 |
| 15 Марта 2014 г. |
|
Хроника трёх переломных лет (1904-1906) жизни столицы Иркутского генерал-губернаторства. События поданы с самых разных ракурсов: читатель то наблюдает их из кабинета городского головы, приёмной начальника края, особняка успешного предпринимателя, то видит глазами беспризорника, извозчика, безработного... Материалом для «Иркутских историй» послужила периодика начала ХХ века. Оглавление 3. Омары под «извозчичьим соусом» 10. В разгар войны — образцовая кузница? 12. За что страдают арендные статьи 19. Кудесники от юриспруденции 20. Бобкова — Генерал-губернаторская 22. О приказчиках настоящих и мнимых 23. Чугунная логика рельсового пути 25. На восточном фронте без перемен 28. Особенности совместного существования 29. Для временного, но приятного проживания 38. Пикник на обочине проигрываемой войны 39. Прямым путём через апокалипсис 40. В ожидании жёлтого портфеля 43. Ищем занятий. Согласны в отъезд 44. Сентябрьская молниеносная война 45. Бархатный колпак для забастовки 46. Долгое эхо восточной войны 50. «Каток открывает свои действия» 54. Святки с запахом пороха и разлук 55. Танцы на расходящемся паркете 59. Частный поверенный гарантирует От автора Зимним вечером 1854 года Иннокентий Апрелков, закончив работу в лавке, поужинал с родителями и младшими братьями — и, как обычно, ушёл в свою комнату. Домашние укладывались спать, когда услышали лёгкий стук входной двери. Оказалось, Иннокентий вышел, не набросив шубу, не загасив свечу — всё говорило, что он скоро вернётся. Однако не вернулся. Апрелкова долго искали, но никогда и нигде не обнаружили. Разбирая эту загадочную историю, поведанную летописцем, я думаю, что, возможно, Апрелков был среди нас — в Иркутске есть места, где грань между прошлым и настоящим зыбка, нужен только некий «код доступа». В моём случае это ежедневное погружение в дореволюционную журналистику. «Иркутские истории» и есть опыт прочтения старых газет. Один из многих и многих возможных. Почему я выбрала именно газеты? Потому что это пространство для меня, журналиста, более открыто, а порою и щедро на подсказки. Случается, персонажи сами начинают раскручивать свой сюжет, и я просто записываю его, не зная, «чем дело кончится». Даже и появление этой книжки объясняю тем, что мои герои просто решили собраться под общей обложкой. Благодарю за помощь в сборе материала Иркутскую областную библиотеку имени И.И. Молчанова-Сибирского. Особая признательность — Лидии Афанасьевне Казанцевой и Галине Петровне Матофоновой. Прощание в январе 31 декабря 1903 года в иркутском Общественном собрании давали «Певца из Палермо». Оперетта эта, ещё малоизвестная иркутянам, прошла весьма гладко, несмотря на то, что оркестром дирижировал не любимец публики Энгель, а некто Тонни. Вечер был отмечен и тем, что на нём присутствовал губернатор Моллериус с супругой. На спектакле торговец бриллиантами, золотом и серебром Цейтлин оказался почти рядом с губернатором — и так и впился глазами в его парадный мундир! Удачливому коммерсанту мучительно не хватало сановной значительности, и в иные минуты она казалась ему важнее всех драгоценных камней. Вот и теперь, рассеянно глядя на сцену, он думал: «Конечно, заезжим чинам в Сибири приходится пострадать и от климата, и от нехватки общения, но зато здесь служебная лестница попокатей. Ведь как откроешь «Губернские ведомости», там обязательно списочек в официальном отделе: А. и Б. произведены из коллежских советников в статские, а Н. и до действительного статского возвышен. Прежде и до тайных советников доходили. Правда, такие случаи наперечёт, однако же, любопытно, что четверть века назад средь счастливчиков оказался и купец (!) Хаминов. Время тогда, конечно, было особенное — агрессивное и романтическое одновременно, миллионы с готовностью шли в руки, но так же и уходили — на благотворительность. Ныне всё по-другому, но нет-нет и представишь, с каким удовольствием этот самый Хаминов, окончив коммерческий день, облачался в мундир и ехал на бал к генерал-губернатору. Или как он, дождавшись очередного чина, заказывал новый сюртук — не обыкновенный (на подкладке из чёрной шерсти), а подбитый зелёным шёлком — в полном соответствии с возросшим статусом. Ибо настоящего человека должно быть видно и по подкладке. Не говоря уж о мундирном воротнике: если он не бархатный, а суконный, — значит, и чиновник мелконький, безразрядный. И напротив: мягкая зелень петлицы, блеск ведомственных пуговиц способны лишить сна любую девицу. Ох уж мне эти барышни на выданье — и корысть, и наивность в одном флаконе: мечтают выйти замуж за юного красавца-канцеляриста в надежде, что «возьмёт вот и вырастет до «бобрового воротника»! Цейтлин размышлял бы и дальше в том же духе, но короткая оперетка закончилась, и в первых рядах зааплодировали вышедшим на поклон артистам. Остальная публика присоединилась, постепенно перемещаясь к стойкам с шампанским. Расстояние между Цейтлином и губернатором стало увеличиваться, но и в отдалении парадный мундир не утрачивал своей магической силы. Торговец бриллиантами всё вглядывался в него, пока чей-то вкрадчивый голос не спросил: — Не угодно ли шампанского? — при этом услужливый господин так уставился на перстень Цейтлина, что тот подумал невольно: «Вот так и я смотрю на губернаторский мундир» — и смутился. Внимательно оглядев весь зал, он приметил двух-трёх очаровательных барышень. Дамский «хор» оказался менее интересен, ему явно не хватало лучшей «виолончели» — супруги господина Храмченко (доверенного лица Цейтлина). «Кстати, отчего же до сих пор не подъехали Храмченко? Уже тридцать пять двенадцатого, скоро закроют парадные двери... Что их так могло задержать? Возможно...» — однако, додумать Цейтлин не успел: его обступили знакомые, и приятнейшая беседа ни о чём заполнила всё время до полуночи. А ровно в двенадцать губернатор поднял тост за Государя Императора и его августейшую семью. Потом пили за здоровье самого губернатора, всех присутствующих — «шампанское полилось рекой», как засвидетельствовали газеты в ближайших номерах. Ещё в разделе местной хроники несколько раз упомянули фамилию Храмченко... Служебная квартира доверенного Цейтлина располагалась прямо за стеной магазина бриллиантовых, золотых и серебряных вещей. В стене была замаскированная дверь, и поэтому служащие шутили, что «Храмченко попадает на работу прямо из спальни». Так было и 31 декабря, вот только Ольга Григорьевна не провожала супруга, как обычно: последний день 1903 года выдался слишком хлопотным. На Детской площадке устраивался первый праздник на льду, с маскарадом и танцами, и она готовила два костюма — себе и сыну. Четыре часа пролетели незаметно, Егорушка вернулся домой чрезвычайно довольный и сразу уснул. Но когда Храмченко одевались, чтобы ехать в Общественное собрание, няня выскочила в прихожую: «У него жар!» Доктора перехватили, когда тот уже подъезжал к собранию, а в аптеку послали Колю Синицына, подручного из магазина Цейтлина. Он вернулся в четверть восьмого, с лекарствами, пролетел через сени, а входную дверь не закрыл — и вскоре в комнату ворвались пятеро, вооружённых пистолетами! Они согнали всех в одну комнату и прежде всего потребовали, чтобы хозяйка сняла с себя украшения и часы. Ольга Григорьевна замешкалась с колье (пальцы сильно дрожали) — и получила такой удар по голове, что лишилась сознания... А когда пришла в себя, грабители уже потрошили витрины. В Общественном собрании в эту пору только-только началась оперетта. И ещё не смолкли аплодисменты, а полицейский пристав Никифор Семёнов уже сделал «новогодний визит» к скупщикам краденого. Потому что грабители второпях не перерезали телефонный провод, и Александр Семёнович Храмченко этим тотчас воспользовался. На золотые магазины в Иркутске покушались достаточно часто, и преступники всякий раз демонстрировали изобретательность, а полиция — способность быстро брать след. Вот и на этот раз, пока Цейтлин отмечал Новый год, пристав с помощниками арестовали преступников и вернули похищенные драгоценности. Больше всех пострадала Ольга Григорьевна, и доктор, отчаявшись помочь ей обычными средствами, попробовал лечить гипнозом. Добавив при этом: — Слава Богу, недавно министр внутренних дел официально признал, что гипноз не есть хирургическая операция, и разрешил применять его без специального диплома. В самом деле: три сеанса оказали благотворное действие. Однако при опознании грабителей Ольга Григорьевна опять потеряла сознание. Коли Синицына на опознании не было: к этому времени он уже не служил подручным в «золотом магазине» Цейтлина. В семье Храмченко Коля считался своим человеком с того самого дня, как однажды остался посидеть с малышом (Ольга Григорьевна с мужем собрались в театр, а нянька, как назло, захворала). За весь вечер Егорка ни разу не скуксился, и довольные родители, возвратясь, угостили Колю ванильными пирожными и дали почитать журнал «Детский друг», где описывались не только всевозможные игры, но и фокусы. Ещё подписчикам «Детского друга» полагались переводные картинки, «Башня огней в рисунках для вырезания и склеивания» и «Необыкновенные приключения капитана Коркорана». Но чтобы стать подписчиком, требовались целых четыре рубля, а всё магазинное жалование забирала мать, Авдотья Синицына. Коля был старшим в семье и просить на игрушки ни за что не решился бы. Другое дело, если б Ольга Григорьевна положила бы книжку под ёлку — она ведь говорила уже, что Колю ждёт сюрприз. Подарки должны были класть поздно ночью, и Коля твёрдо решился не спать. Но в ночь на первого января в квартире были полицейские, и Коля рассказывал снова и снова, как хозяйка с Егорушкой отправились на каток, как Егорушка заболел, и его послали в аптеку за лекарствами, как он пролетел через сени, не заперев дверь, и что было потом. После ухода полицейских он почувствовал тошноту и поплёлся домой, в Глазковское предместье. Никто его не удерживал. У поворота на Троицкую остановился: на Детской площадке была роскошная иллюминация, катались на тройках, начиналось шествие ряженых. Коля постоял. Посмотрел. Попрощался с детством. «Свод правил» 1894 года подробно расписывал, как чиновникам следует одеваться на праздники и на панихиды, в какой руке держать шляпу, какой стороной от себя и на каком расстоянии. Он же регламентировал и ношение мундира в пору отставки. Так, разрешалось носить парадную, праздничную и обыкновенную форму, а будничную и дорожную — нет. Отставным губернаторам и вице-губернаторам полагалось спарывать с мундира часть шитья. И цвет ткани, и фактура ее, и, конечно же, фурнитура мундира демонстрировали разницу положений на служебной лестнице. Особенно это бросалось в глаза по торжественным, праздничным дням, когда устраивались приемы, давались балы, и не только дамы доставали свои лучшие платья, но и мужчины надевали белые шелковые чулки и белые же брюки с серебряным или золотым галуном. Впрочем, «белый низ» дозволялся не каждому: губернатор и городской голова имели на него абсолютное право, а вот вице-губернатор — лишь в особо торжественных случаях, и без галуна. И шляпы разным чинам полагались разные: если первому и второму классу — широкий продольный галун, да ещё и два поперечных, то третий-четвертый могли претендовать лишь на муаровые ленты с узкими галунами по краям. Да что галуны, если даже петлицами «Свод правил» норовил уязвить: красивые витые полагались чинам не ниже статских советников. Правда, разделив чинов по петлицам, разработчики «Свода правил» устыдились и даровали всем одинаково белые парадные перчатки, жилеты и галстуки. Общей для всех оставалась и шпага при парадном и праздничном мундире. «Свод правил» не допускал ни малейшего «разбавления» мундира партикулярным платьем, впрочем, форменной фуражке разрешалось его венчать. Будничный мундир можно было носить и вне службы, но обязательно со шпагой. Отправляясь в дорогу, чиновник судебного ведомства мог позволить себе серые перчатки, даже шаровары вместо брюк, а в ненастье и высокие сапоги, но при этом он должен был оставаться при шелковом галстуке. При самом суровом климате мех чиновничьего пальто не должен был выступать из-за отворотов или из-за полы. В сильную жару разрешалось появляться в судебных заседаниях в легком белом кителе — но при условии, что каждый судья будет в форме летнего образца. Кстати, летняя форма вовсе не исключала сапог... С конца лета 1894 года иркутские портные обсуждали сюртук нового образца для штатных чинов судебного ведомства. На массовое переодевание срок отпущен был больше двух лет, но в законную силу эта форма уже вступила, и во всех «Губернских ведомостях» было дано её очень подробное описание. Сюртук полагался исключительно «черного сукна, двубортный, застёгивающийся от левой руки к правой. Обшлага оторочены, в полвершка от краёв воротника прикрепляется вызолоченный герб судебного ведомства в дубовом венке». Сюртуку положены были и шесть позолоченных пуговиц; в будни их можно было застегивать все, а вот в праздники разрешалось ограничиться четырьмя, дабы виден был отложной бархатный воротник чудного темно-зелёного цвета. Министру юстиции и товарищу министра нововведением 1894 года были утверждены манжеты с золотым жгутом по зеленому бархату и красной суконной выпушкой. Судебным же следователям и чинам прокурорского надзора даровали поперечные плечевые знаки из бархата с золотым жгутом и серебряными звёздочками (и число их, и форма должны были строго соответствовать классу и должности). Новый мундир представал в шести ипостасях: парадный, праздничный, особый, будничный (служебный), обыкновенный, летний и дорожный. Кстати, на последний повлияло плохое обустройство дорог — он стал максимально удобным, немарким и простым. Но разница служебного положения всё равно осталась видна: кто-то выделялся погонами, кто-то — звёздочками на украшенном золотым позументом воротнике; а министр юстиции и товарищ министра — красными отворотами воротника. У министра юстиции и галун на манжетах был прямой и широкий (аж в 3/4 вершка), а у членов окружных судебных палат он извивался двумя узкими полосками. Урок от Матильды Субботним вечером 24 января 1904 года иркутский инженерный бомонд съехался в музей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества на доклад Львова о влиянии мёрзлого грунта на строительство зданий в Иркутске. Выводы лектора разделили не все и, проспорив почти до полуночи, решили продолжить дискуссию в ближайшую пятницу, уже на квартире главного оппонента — Казимировского. Но в том и загвоздка, что на эту же пятницу приходился день ангела хозяйки — Ксении Константиновны. Правда, оставалась маленькая надежда, что она всё-таки уедет в Петербург: срок сибирской службы Феликса Иосифовича приближался к концу, а со стороны Японии наносило уже войной: иркутские газеты печатали ежедневные выпуски телеграмм о событиях на Дальнем Востоке. С такими мыслями инженер подъехал к дому — и обнаружил, что гостиная ярко освещена, а супруга, без тени сонливости на лице, раздумывает над списком гостей. — Как ты кстати! — она протянула исписанный лист. — На обороте ещё довольно свободного места, так, может, пригласим и всех, кто сегодня был в музее? С гостями Ксения Константиновна определялась нынче с трудом: эти милые люди отчего-то плохо ладили меж собой. Взять, к примеру, доктора Зисмана и инженера Фёдорова: респектабельные мужчины, умнейшие господа, но оба подвизались на ниве контроля за соблюдением авторских прав — и превратились из добрых знакомых в конкурентов. Доктор Зисман, представляя в Иркутске отделение Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, отслеживал весь театральный репертуар и на каждую постановку по произведениям членов Союза выдавал (или не выдавал) дозволение. А с некоторых пор то же самое стал проделывать и инженер Фёдоров, имевший мандат от Союза драматических и музыкальных писателей. Притом каждый уверял, что только он и может считаться законным представителем настоящей организации по защите авторских прав. После обменов выстрелами на страницах местной печати Зисман резко сбросил ставку авторских отчислений, и противостояние получило новый импульс! — Пока все вокруг лелеют надежду, что удастся-таки избежать столкновений на Дальнем Востоке, мы открыли свой, доморощенный «театр военных действий», — иронизировал Феликс Иосифович. А Ксения Константиновна отмалчивалась: даже мужу она не решалась признаться в своём рискованном плане — в ближайшую пятницу помирить двух рассорившихся господ. «Разумеется, это будет не просто, ну так что ж? — размышляла она. — Никому не известный учитель начальных классов Мясников смог ведь договориться, чтобы из России в Иркутск прибыла выставка фруктов и ягод, искусно воссозданных женщинами-художницами! Этот же Мясников и устроил так, что все экспонаты закупили (как наглядные пособия) начальные училища города, а также школа при Детской площадкой. Причём вырученные деньги были полностью переданы в Благотворительное общество». Накануне дня ангела Ксении Константиновны в театре Общественного собрания давали традиционное «Иркутское обозрение», и на этот раз оно приятно всех удивило; особенно впечатлила сценка «Как в иркутской думе решался сухарный вопрос». Чувствовалось: у артистов был богатый материал, и на другой день в гостиной Ксении Константиновны только и шутили, что об этом. Но близкая подруга Матильда была явно в смятении, и когда все разъехались, она усадила хозяйку напротив себя: — Поверь, жизнь в Иркутске очень скоро переменится: объявят войну, город переполнят военные, и их станут расквартировывать по обывателям. И вас с Феликсом уплотнят, а с твоими привычками, Ксения, придётся переселяться разве что в «Гранд-Отель». Но самое страшное, что цены на всё вырастут катастрофически: сначала их накинут по пятачку на фунт, потом — ещё и ещё! Умные, дальновидные люди, Ксения, покупают билеты, пока ходят на запад скорые пассажирские поезда. Мы с Владимиром уезжаем завтра, и я очень надеюсь, что расстаюсь с тобой ненадолго, что и месяца не пройдёт, как увидимся в Петербурге или, лучше, в Варшаве. Матильда Станиславовна не ошиблась в расчётах: в последнюю неделю января 1904 года цена на сахар поднялась до 1 рубля 50 копеек за пуд, а за куль крупчатки требовали уже 2 рубля. Правда, иркутский губернатор Моллериус заверил через «Иркутские губернские ведомости», что «чрезвычайное поднятие цен не должно иметь никаких разумных оснований и произошло исключительно от неосведомлённости населения». Он призвал горожан «спокойно относиться к обеспечению себя предметами потребления», а перекупщикам пообещал «строгое взыскание». Вслед за губернатором и городской голова Гаряев известил, что «расквартирование запасных нижних чинов, а равно проходящих частей войск будет производиться по обывателям города Иркутска. Удовлетворение войск помещениями составляет общую повинность всех обывателей согласно 466 ст. Устава о земских повинностях, и городская управа просит обывателей Иркутска озаботиться приготовлением помещений, не исключая и занятых квартирантами». И в самом деле: домовладелица, у которой Казимировские снимали почти целый этаж, получила билет, на одной стороне которого напечатано было положения закона о расквартировании войск, а на другой — число военных для постоя. 30 января после Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе был зачитан Высочайший манифест о начале военных действий на Дальнем Востоке. Храм был полон военным и гражданским чиновничеством в парадных мундирах, а в центре стояли его превосходительство начальник губернии с супругою и исправляющий должность старшего председателя судебной палаты. По выходе из храма толпа народа приветствовала губернатора криками «Ура!» и пением «Боже, царя храни». К двум часам дня огромная депутация в сопровождении оркестра стояла у дома военного губернатора. Его превосходительство, выйдя на крыльцо, провозгласил: «Да здравствует Государь Император!» После гимна и раскатистого «Ура!!!» из депутации вышли два человека, которые просили передать Его Императорскому Величеству о готовности иркутян умереть за него и за родину. Казимировские в это утро долго гуляли по Набережной. С квартиры они пока не съезжали и даже ещё и не думали об этом, ведь на нынешний вечер у них был назначен банкет. Никто не манкировал приглашением, а агент Союза драматических и музыкальных писателей Фёдоров, вопреки всем прогнозам, сел рядом с агентом Общества русских драматических писателей и оперных композиторов Зисманом и в паре с ним тостовал. Кстати, пили в этот вечер, главным образом, за победу в войне, но виновница торжества ничуть не сердилась. А под занавес вечера объявила: — Приходите ещё, господа! Я решила не торопиться с отъездом. Омары под «извозчичьим соусом» 12 января 1904 года через станцию Байкал проехала вторая группа иностранных корреспондентов, направляющихся на предполагаемый театр военных действий. В том, что Сибирь, как и вся Россия, доживает последние мирные недели, у журналистов сомнений не было — тем интереснее казалось оглядеться вокруг. В «Метрополе», где остановились корреспонденты, подавались свежие омары, икра зернистая, спаржа, цветная капуста, помидоры, салат, артишоки, устрицы, пулярды, цыплята и поросята. Гостиница, по столичным меркам, была небольшая, в 42 номера, но удобно и даже роскошно обставленная, с хорошим бильярдным залом. Ресторан не закрывался до 2 часов ночи, а к поездам высылался специальный омнибус. На первом этаже, в № 6 представитель «Шансон и Жаке» принимал заказы на гектографы, типографы, календарные нумераторы — и всё это было весьма востребовано, как будто город и не собирался становиться на рельсы войны. Особенно умилили корреспондентов многочисленные заказы на модные в Иркутске эмалированные дощечки для дверей. Тут же, у «Метрополя» торчали назойливые нищие; судя по виду, они могли бы жить собственным трудом, но не желали, потому что местные обыватели щедро подавали им и терпели их так же, как и распущенных извозчиков. В особенно морозные дни возницы раскладывали костры, отнимая дрова у жителей окрестных домов и друг у друга. Готовые драться за каждое полено, они смачно бранились, и в сполохах огня были очень страшны их искажённые злобой лица. Глядя на них, трудно было поверить, что в городе два театра, что в клубах и обществах идут благотворительные концерты, спектакли, милые семейные вечера. Ещё иностранные корреспонденты обнаружили, что железная дорога отрезала от реки жителей целого предместья — Глазковского. Перед началом работ министр путей сообщения, конечно же, уверял, что трудности временные, но год шёл за годом, а дорога так и не исполнила своих обязательств. Время от времени городское самоуправление слало ходатайства в Петербург, но тщетно. Новоявленная корпорация разрасталась, опоясывая страну и совсем не стесняясь, что кому-то тяжко под этим поясом. В «Известиях инженеров путей сообщения» за 1904 год значилось, что число работающих на Сибирской железной дороге доходит до 70 тысяч человек. Из них служащих — только 20 тысяч. Опасный процент (7,7) от общего числа работающих составляли ссыльные, из которых 600 человек были осуждены за убийства, насилия и грабежи. Только в первой половине января 1904 года за пьянство, манкирование службой, сон в рабочее время и прочее были оштрафованы 96 человек. С началом Русско-японской войны вся Забайкальская железная дорога была переведена на военное положение, и уголовные преступления, совершённые на ней, а также в примыкающей полосе, стали рассматриваться по меркам военного времени. Работавшим на «чугунке» завидовали, ведь у них была пенсионная касса, вагоны-лавки снабжали довольно качественным и при этом более дешёвым товаром, а члены Общества потребителей могли рассчитывать и на хорошие дивиденды: в 1904 году предполагалась чистая прибыль почти в 60 тысяч рублей. Наконец, у железнодорожников была льгота по воинскому призыву, позволявшая кормильцам оставаться при семьях. Однако при более близком знакомстве выяснялось: в новой монополии всё не так гладко. Начать хоть с самого здания Управления Забайкальской железной дороги: с фасада оно впечатляло мощью и величием, но внутри бесчисленные служащие, зажатые бесчисленными столами, были так же беспомощны, как и томившиеся в тесноте коридоров просители. Корпорация существовала, но корпоративного общества, с традициями, культурой ещё не было. Не случайно железнодорожный техник Иван Сальманович, недавно потерявший на службе зрение, за помощью обратился не к начальству и не к коллегам, а к читателям губернской газеты. Очень, очень контрастный этот город Иркутск — таково было общее впечатление иностранных корреспондентов; впрочем, достаточно мимолётное — они ведь спешили на ледокол «Байкал», делавший последние рейсы на восточный берег озера. Сначала предполагалось, что ледоколы будут ходить всю зиму, но байкальский лёд толщиною в 4 фута тяжело поддавался машинам, рассчитанным лишь на 2,5 фута. Дорогостоящим «Байкалом» решили не рисковать — министр путей сообщения князь Хилков лично позаботился об этом. Кстати, зарубежные корреспонденты выяснили, что господин Хилков вполне заслужил приставку к фамилии («Кругобайкальский») — так много времени проводил он на строящейся дороге. Конечно, одноколейке не помешала бы и вторая линия, но приближавшаяся война не позволяла даже думать об этом. На Байкале спешно готовились к переправе войск по льду; на половине пути между станциями Байкал и Танхой уже достраивался барак, в котором можно было бы обогреться и отдохнуть. А ещё по льду тянули телефонную линию (!) Третья группа корреспондентов проехала через Иркутск в конце января и смогла увидеть ежегодный польский бал. Шёл пятый день войны, однако совершенно не обсуждалось, быть балу или не быть. В Общественном собрании выстроили два уютных шатра, меж которых прогуливались дамы в ослепительных туалетах и господа, обладавшие редким умением носить фрак с элегантной небрежностью. Все польские балы в Иркутске обставлялись на широкую ногу, отличались уютной семейной атмосферой и были непременно благотворительными; вот и на этот раз вырученные от буфета и увеселений деньги поделили на две части, и одну передали для бедных католического прихода, а другую — генерал-губернатору на военные нужды. Разъехались, как обычно, в половине четвёртого, но на этот раз с грустью. Знали: кто-то вскоре отбывает на фронт, а кто-то возвращается в Польшу. В Иркутске, долгое время не имевшем светского общества, балы вплоть до середины девятнадцатого столетия устраивались не очень часто. Но при этом неизменно отличались торжественностью и пышностью, потому что всегда связывались с важными, знаменательными событиями. Так, в мае 1814 года в Иркутске был спущен на воду галиот «Александр» — настоящее достижение для доморощенных мастеров, поэтому палили из всех пушек, а городской голова давал обед, а вечером — бал. Три года спустя столь же торжественно отмечалось бракосочетание Великого Князя Николая Павловича. Балы «с размахом» не ограничивались ни числом приглашённых (от трёхсот человек), ни количеством блюд в меню. Съезжались в десять, разъезжались к утру; ужин подавался только в третьем часу, но буфет открывался сразу, как только садились за карточные столы. Генерал-губернатор Муравьев-Амурский любил приурочить свои возвращения из поездок по краю к «царским дням», и оба события отмечал званым обедом и балом. Город при этом был замечательно иллюминирован, и вход в театр объявлялся свободным. Лучшим устроителем всевозможных балов считался генерал-губернатор Пантелеев, блиставший светской непринуждённостью и необыкновенным изяществом в танцах. Его адъютант князь Черкасский дирижировал оркестром вместе с князем Оболенским, и увидеть этот прекрасный дуэт съезжался весь город. Правление Пантелеева продолжалось недолго, но так «закружило» местное общество, что без веских на то причин генерал-губернатор получил звание Почётного гражданина Иркутска. Средства на балы и обеды начальнику края обеспечивала губернская типография, но с развитием конкуренции прибыль стала падать, а балы — вырождаться в простые танцевальные вечера. Но на них по-прежнему могли знакомиться молодые люди одного круга. Жена генерал-губернатора Горемыкина ввела моду на домашние балы с числом гостей не более пятидесяти. Как правило, это были чиновники и их семьи. Они сами развлекали себя постановкой комедий и музицированием. С постройкой в Иркутске нового Общественного собрания начались балы-карнавалы, собиравшие до 1300 человек. В январе 1904 года, к примеру, один из главных призов достался за костюм «Местная пресса», а другой — за «Надгробный памятник канцелярии трех адвокатов». Публика бурно аплодировала и авторам костюмов «Распродажа Алексеева», «Магазин Щелкунова и Метелева», «Современное дитя» и «Иркутск». К этому времени совершилась уже танцевальная революция, разделившая общество на два лагеря. Гимназистов и гимназисток теперь мало привлекали мазурка и полонез — в ходу у них был новый чардаш, эпашок, кекуок, польский модерн. Но и в эту пору балы оставались ярмарками невест, и готовясь к ним, юные иркутянки прибегали к всевозможным ухищрениям: скажем, заказывали каблучки с крошечными серебряными колокольчиками. Появилась и мода на внутривенные духи; некоторые барышни ухитрялись поменять несколько ароматов за вечер и, случалось, прямо с бала попадали в больницу. Пощёчина от Понтовича В канцелярию генерал-губернатора поступила телеграмма из Порт-Артура: «Жена моя проездом в Россию остановится в Иркутске. Прошу передать ей, что я, Власьев и Агафонов спаслись при взрыве «Енисея». Лейтенант Дрешер». То, что телеграмма адресовалась не в полицию, как положено, а прямо начальнику края, показывало небывалые прежде реалии, в которых сложнейшая иерархия сводилась к простенькому делению на выживших и погибших, победителей и побеждённых. Поразило и происшествие в мужской гимназии: ученик 7 класса Понтович дал пощечину инспектору Александровичу. Жандармы знали, что в этом учебном заведении активно действуют социал-демократы и эсеры, но до сих пор ученические «протесты» выражались лишь пропусками уроков да освистыванием наскучивших педагогов: директор гимназии Румов умело переводил избыток подростковой энергии в далёкое от политики русло. Опасное время удалось бы миновать без потерь, но новый инспектор Александрович так настроил всех против себя, что юные социал-демократы объединились с юными эсерами и решили выразить общий протест пощёчиной. Эта честь выпала Эдуарду Понтовичу. Гимназия замерла в ожидании неизбежных репрессий, но возвратившийся Румов посоветовался с генерал-губернатором Кутайсовым — и Понтовичу позволили оставить гимназию добровольно; более того, ему предложили самостоятельно подготовиться к выпускным экзаменам и сдать их экстерном. Кое-кто заподозрил в этом подвох, однако же год спустя Эдуард Понтович действительно получил аттестат, и с хорошими отметками (по поведению в том числе). Недавний бунтовщик был так растроган, что чистосердечно раскаялся и принёс инспектору Александровичу письменное извинение. Но это было позже, а тогда, в начале весны 1904 года у многих иркутских школьников начались бессрочные каникулы: всё прибывающие войска негде было уже размещать, и им отдали здания восьми начальных училищ. Ошалевшие от внезапной свободы мальчишки носились вокруг этих новоявленных «казарм», где по утрам чиновник от интендантства нараспев повторял: — Ежели кто из запасных принесёт собственные сапоги с голенищами не короче девяти вершков и годное к употреблению платье и бельё, то получит от казны: за сапоги — 5 рублей, за рубашку — 50 копеек, за исподние брюки — 35 копеек, за полушубок — 4 рубля, за рукавицы — 26 копеек, за шапку-ушанку — 11 копеек, за суконные портянки или шерстяные чулки и носки — 72 копейки. Иркутские доктора торопливо продавали свой скарб, лошадей и в спешном порядке отбывали на фронт. Казимировские съехали из своей просторной квартиры в крошечный флигель на соседней улице, но застать их там можно было лишь поздно вечером: Феликс Иосифович засиживался на службе, а Ксения Константиновна целые дни пропадала в Дамском комитете Красного Креста, организованном энергичной супругой губернатора Анастасией Петровной Моллериус. На первом же заседании собрали по подписке более двух тысяч рублей, а на общем собрании и ещё более четырёх с половиной тысяч. Губернаторша сразу раздала активистам подписные листы, а всем начальникам учреждений предложила просить господ служащих о ежемесячном отчислении с жалования. Что до владельцев коммерческих фирм, то отныне каждая встреча их с губернаторшей неизбежно завершалась пожертвованием — деньгами, вещами, материалами. Естественно, и антрепренёр столичной комической оперы и оперетты немедленно согласился на предложение Анастасии Петровны дать спектакль в пользу семейств мобилизованных нижних чинов. Чтение в Иркутске Манифеста о начале военных действий с Японией задерживалось вплоть до 30 января, и исключительно волей протоиерея кафедрального собора Фивейского — он очень тщательно подбирал необходимую интонацию для проповеди. Одна за другой были отвергнуты и проникновенная доверительность, и пафосная торжественность; наконец, после общения с местным генералитетом протоиерей решил остановиться на вдумчиво-деловитой интонации. — Чистая, близкая Богу молитва о воинах очень дорога, но ничуть не менее необходимы денежные пожертвования от всех стоящих вне битвы. Пусть Отечество в каждом из нас встретит не только Пожарского, но и Минина! — сказал Фивейский сразу после прочтения Манифеста, и эти слова немедленно разнеслись по Иркутску, и ещё не закончился день, а кружка у входа в кафедральный собор уже наполнилась до краёв. Со своим словом обратилась к читателям и редакция губернской газеты: «Наступают дни Масленицы, в которые, обыкновенно, выбрасывается масса денег, и вот вместо этого пусть каждый внесёт свою лепту в пользу Красного Креста, кружки которого найдутся во всех людных местах и магазинах. Думаем также, что местное общество, независимо от пожертвований денежных, организуется для наилучших забот о воинах. Отдельные разговоры об этом раздаются, остаётся лишь явиться инициаторам». И они явились: при церквях начали создаваться комитеты помощи раненым, а настоятельница Знаменского монастыря открыла бесплатную гостиницу для сестёр милосердия, проезжающих на фронт. Местное мусульманское сообщество передало в пользу больных и раненых воинов 400 рублей, прихожане Богородице-Казанской церкви собрали на нужды армии 200 рублей. Купец Н.В.Яковлев арендовал большое помещение под постой воинских команд, обеспечил их самоваром и чаем. А купец А.А.Второв объявил, что за всеми мобилизованными служащими своей фирмы сохранит содержание (за семейными — полное, за одинокими — в половинном размере). В пехотном юнкерском училище подсчитали, что экономия на пирожных, конфетах и киселях составит приличную сумму, которую можно будет передать Красному Кресту. Вслед за этим и воспитанницы института имени Николая I решили отдать «сладкие деньги» семьям мобилизованных, а для них самих насушили сухари. Мальчики из ремесленного заведения имени Н.П.Трапезникова и студенты учительской семинарии, отказавшись от сладких блюд, передали сэкономленные деньги Красному Кресту; а кроме того, объявили, что готовы ехать на фронт добровольцами. Двух выпускников, в самом деле, отправили в Порт-Артур. В ответ на это и педагоги пошли на двухпроцентное отчисление из жалования — вплоть до окончания войны. А железнодорожники стали отказываться от положенной им брони. В первые три недели войны патриотический подъём достиг огромного накала. Хоть, конечно же, были и те, кто пытался нажиться на беде. В ночь с 1 на 2 февраля у Казимировских собралось более десятка инженеров-железнодорожников — редактировали коллективную жалобу членов Общества потребителей Забайкальской железной дороги на торговцев, искусственно взвинчивающих цены. В ожидании ответа от начальника управления дороги инженеры Твардовский и Яздовский, как написали позже «Губернские ведомости», «призвали к себе старшего кладовщика и надлежащим образом указали на всю неуместность и неосновательность предпринятого им повышения цен. После чего цены на весь продукт в магазине общества потребителей снова приведены к тому уровню, на каком они находились до начала военных действий». Редактор подписных листов 28 января иркутский военный генерал-губернатор, сенатор, генерал от инфантерии граф Кутайсов «имел счастье представляться Её Величеству Государыне Императрице Александре Фёдоровне». Жизненный и в особенности дипломатический опыт позволял Павлу Ипполитовичу сохранять нужное выражение лица в разных, порою весьма щекотливых обстоятельствах, но на этот раз маска продержалась лишь до вокзала, где и стало очевидно, как он разочарован и встревожен. В нынешнем году Кутайсову исполнялось шестьдесят семь лет. На 1904-й приходился и полувековой юбилей его службы. Можно было предположить, что пожалуют очередной орден, назовут его именем одну из улиц. Но всё это казалось теперь совершенно нелепым на фоне той обречённости, которую он вынес из встречи с императрицей. До Москвы граф доехал уже совершенно разбитым и, не встречаясь ни с кем из знакомых, сел в скорый поезд, отправляющийся на восток, и сразу уснул. Очнулся ночью — оттого, что поезд остановился; тихо вышел из вагона и прошёл вдоль состава, до места, где помощник машиниста, чертыхаясь, расчищал рельсы. — Вот, Ваше Благородие, чистим, значит. Снег с обочин здесь, стало быть, не сбрасывают, и он выше рельсы встаёт, а рельса, стало быть, уже в ямке. Без ветру оно ещё ничего, а уж как завихрит — так паровоз и остановится. Кутайсов молчал, думая о множестве циркуляров, рассылаемых по всей линии. Недавно начальник Сибирской железной дороги телеграфировал начальникам участков: «Убедился, что данные мною указания относительно очистки пути и содержания его не везде и не всеми исполняются, как следует. Предписываю не только ездить самим, но и посылать имеющихся на участке техников. Предупреждаю, что буду следить за поездками и строго взыскивать». «И как же это он, интересно, будет следить? — усмехнулся Кутайсов. — Наверняка распорядится отчитываться раз в неделю, а потом будет слушать и думать, что всё и всегда упирается в отдельного человека, а к каждому отдельному человеку солдата с ружьём не поставишь. На гужевой переправе между железнодорожными станциями Байкал и Мысовая две недели хозяйничали ямщики, заламывая невероятные цены, и только личное вмешательство министра путей сообщения позволило навести порядок. Но ведь по каждому случаю министра не назовёшься! Вот так и в Иркутске, где, конечно, есть и дума, и губернатор, но каждому начальнику края приходится-таки вникать в мелкие вопросы городского обустройства. Вот и он, Кутайсов, вступив в должность, первым делом занялся освещением соседних зданий. К удивлению, граф нашёл в Иркутске остатки настоящего (даже по европейским меркам) общества. Что особенно важным становилось теперь, с началом военных действий. В телеграммах из Иркутска говорилось об огромном наплыве добровольцев, равно как и о том, что почти всем отказывают... из-за загруженности железной дороги. Да, воинским эшелонам катастрофически не хватает вагонов, и в Иркутске сейчас было чрезвычайно опасное скопление солдат-запасников. Оторванные от привычной крестьянской жизни, они топили растерянность в ближайших портерных; случились уже и первые столкновения с обывателями, пролилась уже первая кровь. И хотя Кутайсову клятвенно обещали «удержать, отвлечь, не допустить», граф сомневался и тревожился. Почти все телеграммы, которые получал он на пути до Иркутска, так или иначе, были связаны с ледовой переправой через Байкал. Регулярное, правильное движение открылось на Сибирской железной дороге ещё 1 июля 1903 года, но в сплошном пути Кругобайкальский участок составлял досадное исключение. Паромная переправа не могла работать круглый год, почти три зимних месяца пассажиров и грузы перевозили через озеро на лошадях, а на несколько недель движение вообще прекращалось: гужевая переправа становилась опасной, а лёд у берега оставался крепким и не поддавался ледоколам. Вынужденный перерыв продолжался не менее 18 дней в году, а к ним нужно прибавить ещё месяц весеннего бездорожья, несколько недель туманов и бурь. Всё это время паром не работал и, как писали газеты, начиналось «замешательство в движении поездов». Не случайно ведь с самого начала войны с Японией министр путей сообщения, натурально, поселился на этом участке дороги. Его вагон стоял прямо у кромки озера, рядом с зимующим ледоколом «Ангара». Каюты очень пригодились для офицерских жён, шедших вместе с детьми из прифронтовых полков. В спешке многие женщины не успели запастись тёплой одеждой и теперь укутывали ребятишек во что придётся. Несколько матерей, развернув тулупы на другом берегу, обнаружили, что дети задохнулись... Полковник Попов, возвращающийся в Иркутск, на станции Байкал увидел большую группу запасных, как на подбор, без валенок, в коротких, не по росту полушубках и шапках, не закрывающих уши. И добравшись до города, первым делом заскочил к редактору «Губернских ведомостей» Виноградову. Александр Иванович, не дослушав ещё, связался с губернатором и спустя полчаса имел уже подписной лист, на котором стояли две первых фамилии — самого господина Моллериуса и богатого крестьянина Левшина, заехавшего в этот час в губернское управление. Присутственные часы истекали, чиновники подбивали дела и позёвывали, настраиваясь на чтение любимых журналов после семейного ужина. На приветствие господина редактора они отвечали любезно, но несколько рассеянно — и весьма удивились, когда он попросил задержаться и забрал решительно всё, что было при них, а именно 98 рублей 50 копеек. В этот вечер Виноградов застал ещё всех владельцев больших магазинов на главных улицах. Воллернер сразу выложил 100 рублей, Поляков ограничился 50 рублями, но у него сидели купец Мыльников и некие Маркман и Жезлова — все они подписались, разумеется. А Александр Иванович отправился дальше, принимая по 100-200 рублей, пока не закрылись двери последней торговой фирмы. На другое утро он встретился с управляющим казенной палатой, начальницей института имени Императора Николая I, владельцем книжного магазина Посохиным, попутно интересуясь, где лучше покупать валенки, полушубки и шапки. И четвёртого февраля на Байкал ушла уже первая партия тёплых вещей, пятого и шестого февраля Виноградов отправил ещё две партии. Попов советовал не скупиться на охрану — и редактор не поскупился, но взял с полковника слово, что тот лично установит надзор за раздачей одежды. Попов исполнил всё в точности и скоро рассказывал, как переодетые в новые полушубки солдатики отдавали свою одежду прибывающим из-за Байкала женщинам и детям. В следующем номере «Иркутских губернских ведомостей» был напечатан «Отчёт о расходовании собранных по подписке средств на приобретении 677 катанок, 716 шапок и 742 полушубков». С припиской: «Публикуя настоящий предварительный отчёт, обращаюсь с покорнейшей пользой не отказать в дальнейших пожертвованиях». Серебряная подковка Номер «Иркутских губернских ведомостей» от 15 февраля 1904 года подписчики получили с вкладышем — картой Кореи и Квантунской области. Уже более полумесяца шла война, город полнился слухами, а внятных правительственных сообщений до сих пор не было. Неопределённость опасно затягивалась, и редакция официальной газеты решилась на перепечатки из «Konigsberger Harfung Zeit» и «New -York Herald». Это были свидетельства очевидцев, один из которых рассказывал о бое под Чемульпо, а другой — о бое под Порт-Артуром. Естественно, пришлось оговариваться: «Помещая эти заграничные известия, представляющие несомненный для нас интерес, мы обращаем внимание наших читателей на то, что они не могут считаться достоверными до той поры, пока содержание их не будет подтверждено официальными сообщениями русского правительства». Публикации эти обескуражили и многих в Иркутске заставили отказаться от шапкозакидательских настроений. Война, вчера ещё именуемая «событиями на Дальнем Востоке», встала вдруг в полный рост. Служащие городского управления, попадающие под мобилизацию, озаботились оставлением за собой не только занимаемых должностей, но и собственно жалования. Стопроцентное содержание сохранялось за семейными служащими и за теми, чьи заслуги считались однозначно высокими. Остальным положены были 1/2 и 1/4 жалования. Но за каждым было признано безоговорочно право на подъёмные. Иркутск всё более обретал черты прифронтового города. В разных частях установлены были 40 навесов для очагов, а домовладельцам переданы котлы (каждый вёдер на 17-20) и обязательство три раза в день готовить кипяток, который потом развозили по казармам. Для иркутского 1 гильдии купца Давида Кузнеца начало войны с Японией совпало с получением подряда на укладку рельсового пути по льду Байкала. Управление Забайкальской железной дороги обязалось платить ему по 1700 рублей за версту — если работа будет исполнена вовремя, то есть к 15 февраля. За каждый день сокращения срока установлена была премия в 3000 рублей. 14 февраля 1904 года рельсовый путь, ведущийся с двух сторон, сомкнулся. А Давид Кузнец приступил к исполнению следующего, не менее выгодного подряда — перегонке конной тягой гружёных вагонов и паровозов. За каждый вагон положено было по 45 рублей, а за каждый паровоз по 270 рублей; всего же за Байкал предполагалось отправить 3600 вагонов и 150 паровозов. Кузнецу же отдан был и подряд на устройство на Байкале временных бараков для отдыха войск. «Нашёл серебряную подковку!» — досадовали конкуренты, но ни один из них не решился бы на участие в этом дерзком проекте. Война с Японией невольно способствовала и расцвету гостиничного, ресторанного бизнеса. Уже 15 февраля распахнула двери зимнего сада «Россия» на Амурской. Злые языки утверждали, что владельцы гостиниц вкладываются зря, что война неизбежно всё упростит и обеднит, но время доказало обратное. Вслед за уполномоченным Императорского Красного Креста и сёстрами милосердия последовали иностранные и российские корреспонденты, офицеры, инженеры... Им, едущим на войну, хотелось скрасить дорожный неуют — и оркестры услаждали их слух до утра. К их услугам были живые раки и падефруа, а также способствующие пищеварению изысканные образцы ювелирного искусства. Держатели дорогих ресторанов и настоящих hotel не просто появились в нужное время и в нужном месте — как и Давид Кузнец, они демонстрировали готовность к риску. А только на таком условии и даётся в руки серебряная подковка. Все идут «на полковников» В последних числах февраля 1904 года иркутская городская управа считала расходы на солому для тюфяков солдатам, расквартированным по начальным училищам города. А также пересматривала список получающих городское пособие. — Он весьма и весьма устарел, — констатировал член управы Глушков. — Взять, к примеру, мещанку Кошкарову: один её сын уже выучился и недавно поступил на службу учителем, другой заканчивает промышленное училище и имеет хорошие уроки. То есть всё говорит за то, чтобы семью Кошкаровых из списка исключить, а её ежемесячное пособие (десять рублей) передать действительно нуждающимся. Так и доложили мы на заседании думы, но там рассудили иначе. А гласные приняли во внимание, что наступивший год будет для Кошкарова-младшего выпускным, и решили: пусть спокойно доучится. Однако было и ещё одно немаловажное обстоятельство, подтолкнувшее думу к такому решению: Кошкаровы добросовестно несли повинность по постою солдат. Сначала запасных нижних чинов размещали в городских училищах, но очень скоро дошла очередь и до обывателей. Василия Кондратьева из Енисейской губернии определили в Знаменское предместье, к вдове Елизавете Кошкаровой, а двух его товарищей разместили тремя улицами выше. Подниматься к ним было совсем не с ноги, и собаки злющие, так что встречались солдатики исключительно за обедом. А столовались все трое в походной кухне на Ланинской: час туда, час обратно, щи на корточках, рядом с котлами. Эх, скорее бы уж на фронт! Застоялись запасные: кто постарше — пошёл по портерным, кто помладше — по публичным домам. На что уже он, Кондратьев, мужик степенный и правильный, а и то от безделья заскучал. Сколько раз садился за письмо, но дальше строчки «Стоим в Иркутске» не сдвинулся. Нет, уж лучше на фронт! Да и Кошкаровым облегчение: квартирка-то у них маленькая совсем. Да, кстати, и холодная: Кондратьев помёрз, помёрз, да и начал полы утеплять. Открытие театра военных действий между прочим показало, что о Дальнем Востоке у иркутян самое приблизительное представление. Впрочем, как и о миноносках, канонерских лодках и броненосцах, известия о которых не сходили с газетных полос. «Иркутские губернские ведомости» принялись за ликбез, то есть начали популярно пересказывать целые страницы энциклопедий и справочников. Одновременно и полковник фон Агте, инспектор иркутского юнкерского училища, пригласил всех в Общественное собрание — на лекцию о морском бое. Этот чистокровный немец демонстрировал чисто российскую эмоциональность и сибирский патриотизм: — Может, кто-то скажет, что мы, Россия — держава сухопутная, и тогда зачем же нам флот? Я не поверю. Выйдите из этого собрания — и вы увидите триумфальную арку с надписью «Дорога к Великому океану», а это в переводе на язык народа значит: «Нам нужен флот»! Расширять и укреплять его предлагалось пожертвованиями, и действительно: сбор с первой лекции фон Агте составил 550 рублей, и со второй — не меньше. Далее эстафету принял полковник Генерального штаба Хлыновский. На его лекциях в зале решительно не хватало мест — наверное, оттого, что рассказывал он не только о вычитанном, но и о виденном собственными глазами. Кроме того, патриотическая направленность (каждая лекция начинались и заканчивались народным гимном) не мешала Хлыновскому рассуждать беспристрастно: — Вековая ненависть китайцев к «заморским чертям» лежит в основе всех сношений Китая с заграницей. И надо признать эту ненависть вполне естественной. В самом деле, представим себе, что все важнейшие гавани Европы оказались бы занятыми китайскими судами, и вся внешняя торговля в этих гаванях находилась бы в руках китайцев, по всем главным рекам ходили бы китайские пароходы, все железные дороги и промышленные предприятия были бы устроены на китайские деньги и заведовали бы ими одни китайцы. Представим, что в европейских столицах поселились бы китайские миссионеры, проповедующие при поддержке китайских пушек и военных кораблей. Без сомнения, европейцы вскипели бы ненавистью к китайцам. А ко всему этому нужно ещё прибавить, что китайцы считают себя в культурном отношении гораздо выше и гордятся своей древней цивилизацией. Пришельцев-иностранцев они считают по отношению к себе такими же низшими существами, какими мы считаем их по отношению к себе. Вслед за полковниками сбором средств на миноносцы занялись и приказчики, и чиновники почтово-телеграфного округа. Но куда реальнее оказалась помощь семьям мобилизованных: необходимые средства собирались благотворительными концертами объединённых хоров — семинарии, архиерейского и любителей духовного пения. Эстафету подхватили служащие Александровской каторжной тюрьмы: смотритель И.И.Лятоскович (скрипка) выступал в паре с дочерью (рояль), а тюремный врач Н.И.Зверев (виолончель) — в паре с супругой (рояль). Арестанты, которым давно уже давались уроки музыки, составили хор, и сельская публика заслушалась популярными произведениями Моцарта, Мендельсона, Шумана, Верди, Гайдна, Бетховена, Вагнера. К концу февраля большинство иркутских служащих определились с процентом отчислений из жалования на нужды войны. Он колебался от одного до пяти: для сотрудников Сиропитательно-ремесленной школы и минимальная сумма была довольно ощутима, а в Акцизном управлении её, можно сказать, и не замечали — так же, как и в Сибирском торговом банке, где до конца войны на 20 % подняли жалование. Под предлогом войны домовладельцы Харлампиевской улицы попытались освободиться от обязательного в текущем году замощения улицы, но гласные напомнили им, что работы должны были закончиться ещё в прошлом, 1903 году, и поэтому ссылка на войну неуместна. Однако открытие театра военных действий заставило отодвинуть намеченные научные экспедиции. В разгар обсуждения этой огорчительной новости в Иркутск прибыл полярный исследователь, участник последней экспедиции барона Толля лейтенант Колчак. Он ехал на фронт, но во время вынужденной остановки в Иркутске согласился выступить в Географическом обществе. Лекция Александра Васильевича была назначена на 2 марта и собрала большую аудиторию. «Иркутские губернские ведомости» посвятили её изложению отдельный материал, а начальник Горного управления Дмитрий Анатольевич Иванов пригласил лейтенанта в золотосплавочную лабораторию, где собрался иркутский горный кружок непосредственной помощи воинам на Дальнем Востоке. За беседой, затянувшейся за полночь, договорились и о том, что Колчак доставит в Порт-Артур посылку с тёплыми вещами для моряков. Туда же сложили и свежие газеты, в том числе номер «Иркутских губернских ведомостей», сообщавший: «В бурятской Алари в последний день февраля был молебен с литургией о победе над супостатом. Присутствовали и младшие школьники, и священник с большим чувством пересказал по-бурятски воззвание архиепископа. Дети тотчас отозвались, выложив на тарелочку всё, что имели — 1 рубль 84 копейки. Невелика эта жертва, но поистине дорога, как лепта евангельской вдовицы». Дыхание марта Четвёртого марта у господина Миклашевского потерялась собака — прекрасный белый пойнтер. В тот день была первая настоящая оттепель, в белом небе проглядывала синева, и никак не верилось, что любимец не найдётся. И в самом деле: в губернской газете от 6 марта напечатали объявление: «Пристала собака. Можно видеть ежедневно, от 4 до 6 часов вечера в Селивановском переулке, в квартире инженера Дитриха». Миклашевский не утерпел, пришёл в половине четвёртого; услышал радостный лай и подумал: «Неплохое начало весны, пусть и военной». Возвращаясь домой, Миклашевский не отказал себе в удовольствии сделать круг до Детской площадки. Там, как в сказке, не по дням — по часам поднималось новое здание. Общество распространения народного образования и народных развлечений возводило эту постройку на пожертвования и сборы от благотворительных спектаклей, лекций, концертов, балов. Денег, собранных таким образом, хватило на закладку фундамента; дальше должен был наступить перерыв, но он, Миклашевский, как один из членов общества, вызвался одолжить 1200 рублей из собственных сбережений — и строительство продолжилось. Теперь уж можно быть совершенно уверенным: летом здесь откроется библиотека, учебные кабинеты, начнутся образовательные экскурсии. О летних экскурсиях задумался и архимандрит Никон, ещё в конце февраля составивший список семинаристов для поездки на Кавказ и Афон. Всё время пути предполагалось вести дневники, а после издать их. Средства и на поездку и на печать архимандрит намеревался собрать собственными лекциями в Общественном собрании. В том, что это получится, и не сомневался никто. Вообще, нынешней весной в Иркутске, кажется, всё у всех получалось: с 1 марта снова начал работать лесопильный завод товарищества «Лаптев, Михайлов и Вишняков». Предлагая брёвна, брусья, плахи и тёс всех размеров, обещая доставку во все части города, предприниматели словно бы и не сомневались, что заказы на них так и посыплются. И антрепренёрша Светлова набрала уже для Иркутска новую труппу и телеграммой из Москвы сообщала, что арендует летний театр в Интендантском (Синельниковском) саду. День 7 марта 1904 года выдался таким тёплым, что каждый гуляющий по Большой почитал своим долгом высказаться о ранней весне. Естественно, обсуждались и события на Дальнем Востоке; у дверей магазинов, кафе, на извозчичьих биржах слышалось «Японцы.. .крейсер ... эскадра... атака...» Барышни на выданье доверительно сообщали друг другу: — У нас непременно будут стоять офицеры. Конногвардейцы. — А у нас — уланы. «Обидно, но ни тех, ни других барышни не увидят, — иронизировал местный фельетонист, — пехота из запасных нижних чинов — вот, собственно, всё, на что можно рассчитывать». 7 марта многие извозчики сменили полозья на колеса. И Ольга Юрьевна Ельская, дочь известного в городе пивовара, выехала в летнем экипаже. Лучшие в городе бегуны нетерпеливо перебирали ногами, пока барышня спрашивала в киосках только что поступивший в Иркутск роман «Графиня-нищая». Наконец, новомодная книжка была найдена, и по дороге в магазин Зисмана Ольга несколько раз порывалась заглянуть за обложку, но сдерживала себя. Зисман нынешнею весной явно ставил на мужчин, несмотря на мобилизацию. И, кажется, угадал: открытие театра военных действий обострило восприятие мирных радостей, и господа потянулись в галантерейные магазины за галстуками, запонками, воротничками, подтяжками, перчатками и манишками всевозможных цветов. А вот пивовар Ельский по-прежнему обходил мужские отделы магазинов стороной; возможно, потому, что всё необходимое подбирали его дочь и жена. А может, и оттого ещё, что Юрий Каземирович принципиально не любил трат. Не далее как вчера, просматривая газеты, он возмущался: — Иркутское представительство фирмы «Нейшеллер» увеличило содержание своим служащим вплоть до конца войны. Газеты написали об этом — и тотчас примеру последовало иркутское отделение Страхового общества «Россия». А за ним и служащие Русско-Китайского банка подали коллективное ходатайство об увеличении окладов — всё с той же ссылкой на войну. Все, решительно все желают повышения жалования — но откуда же жаловать, из каких закромов? Любимейшей мыслью Ельского было зарабатывание достойных денег высокопрофессиональным трудом. Но сегодняшний монолог расстроился, потому что супруга Дарья Антоновна подложила на журнальный столик лондонский «The Grafic». А там, на развороте под заголовком «Прокладка железной дороги по льду Байкала» красовался нарисованный поезд с дымящимся паровозом, стремительно пересекающий озеро. На другом рисунке, подписанном «Переправа русских войск через Байкал» главным перевозчиком был... верблюд. — Никогда б не подумала, что твои любимые англичане не знают физику, — съязвила Дарья Антоновна. — А ведь даже я с моим «дамским образованием» понимаю, что дымящиеся паровозы не следует ставить на лёд. Как ни странно, и отечественный «Русский листок» печатал о железнодорожной переправе через Байкал совершенно невероятные вещи. Ельские просмеялись весь вечер, и Юрий Каземирович так разомлел, что, в конце концов, обещал жене взять в аренду дачу Зисмана со всеми её угодьями и удобствами. Короткие встречи 14 марта 1904 года в Иркутске, по дороге на фронт сделала остановку большая группа московских и петербургских корреспондентов. От «Биржевых ведомостей» ехал г-н Эристов, от «Новостей» — г-н Соломон, от «Новостей дня» — художник Верещагин. «Новое время» и «Русское слово» представляли по три военных корреспондента, среди которых была и женщина, госпожа Пуаре. Писатель Амфитеатров командировался сразу от двух изданий, «Нива» и «Русь»; первое наняло его за тысячу рублей в месяц, второе — за 3 тысячи. Во столько же обошёлся «Новому времени» и известный журналист Кравченко. Приплачивали, понятное дело, за риск: один из российских корреспондентов, Мамонтов был уже ранен в Порт-Артуре. Журналисты бодрились, конечно, но их военный вояж явно складывался неудачно; на подъезде к Иркутску заболели госпожа Пуаре и Немирович-Данченко. Гостиница «Россия», где высадился десант корреспондентов, располагалась рядом с редакцией «Губернских ведомостей», и, конечно же, гости заглянули к коллегам. Этот импровизированный журфикс показал, между прочим, какая пропасть между столичным скепсисом и возвышенным патриотизмом провинции. Начать с того, что в Иркутске свято верили: постройка Китайско-Восточной железной дороги поднимет значение Сибирского пути как мирового транзита. Столичные же считали затею с КВЖД весьма грубой и очень дорогой ошибкой, а аренду Порт-Артура называли «забавой для нескольких персон». Редактор «Иркутских губернских ведомостей» Виноградов, поразмыслив, списал резкость суждений на известный петербургский цинизм» — и отправился проведать Немировича-Данченко, с которым давно мечтал познакомиться. Вместе с Александром Ивановичем напросился и корреспондент Родионов. Разговор, как нередко случается у газетчиков, завязался стремительно и продолжался вплоть до одиннадцати часов ночи. Говорили обо всём, но, конечно же, всего более о войне. Ведь положение на театре военных действий оставалось загадочным. Из американских и английских источников следовало, что японцы уже высадились к западу от реки Ялу, а наши войска отступили. Однако генерал Жилинский телеграфировал, что японских войск в Маньчжурии нет и быть не может, потому что противник движется из Сеула со скоростью 13 вёрст в день, а расстояние до Ялу составляет 265 вёрст. — Неделею позже или неделею раньше, но серьёзные операции на суше начнутся, — Василий Иванович отхлебнул горячего чая. Он был военным корреспондентом ещё в турецкую кампанию и теперь невольно сравнивал. Пока поезд вёз его до Иркутска, в голове сложилось очередное эссе, и теперь он хотел проверить его на коллегах. Родионов слушал молча, но при этом не сводил с полулежащего писателя глаз. Ещё не вникая в смысл, он вслушивался в ритм каждой фразы, силясь понять, «как слова отскакивают друг от друга и между ними словно бы обнаруживается пружинка». Виноградов всё время чтения глядел в окно, и уголки его рта постепенно опускались: писателя Немировича-Данченко он никак уже не мог отнести к циникам, но его эссе совершенно не вязалось с громогласными обещаниями генерала Куропаткина «вскоре прогуляться по японским островам». Поезд командующего Маньчжурской армией проследовал через Иркутск 9 марта, но слухи об этом ещё долго бродили по городу. За несколько часов до прибытия в Иркутск пришло сообщение, что все запланированные встречи отменяются; при этом на вокзал вызывались оптик и дантист. Пошли догадки о нездоровье Куропаткина, и небольшая делегация всё-таки прибыла на перрон. Полковник генерального штаба вышел из поезда и объявил, что командующий армией примет только начальника края графа Кутайсова и ответственного за передвижение войск. Остальные могут следовать до Байкала и уже там представляться генералу — если имеют надобность. Между тем, надобность в этой встрече была именно у Куропаткина: армия наспех обмундировывалась и очень нуждалась в деньгах; на всём пути следования командующего городские думы собирали по 10-15 тысяч рублей, вот и иркутская привезла на вокзал свои 12 тысяч. Коротко посовещавшись, городская делегация села в поезд и прибыла на станцию Байкал в 6-45 утра, почти на час опередив Куропаткина. Встретил иркутян министр путей сообщения князь Хилков, в привычной теперь для него серой войлочной куртке, шапке-ушанке и огромных белых валенках. Он сильно кашлял, но и в выражении глаз, и в энергичных, точных движениях читалась удовлетворённость: большая часть грузов, поездов и солдат была уже переправлена через Байкал. Князь лично руководил переправой грузов по ледовой железной дороге, и его распорядительность, к удивлению многих, сочеталась с приветливостью и внимательностью ко всем. Сразу же по прибытии Куропаткина Хилков направился к нему в вагон, а четверть часа спустя туда пригласили иркутского городского голову и соборного протоиерея. Приняв икону и деньги, Куропаткин заметил: — Вы жертвуете на раненых, а ведь здоровые ещё больше нуждаются! Пришлось городскому голове Гаряеву уточнить, что деньги отданы непосредственно в распоряжение генерала, на нужды, которые лично он признает «надлежащими удовлетворению». — Вот за это благодарен, — оживился Куропаткин и даже расцеловал Гаряева. Через Байкал генерала повезли в небольшой кошеве, обитой ковром и запряжённой тройкой низкорослых сибирских лошадей. Было тихое, ясное, на редкость тёплое утро, и вдоль дороги плотной стеной выстроились рабочие, с молчаливым вопросом смотревшие на невысокого и немолодого человека в папахе с красной тульей и... унтах. А писатель Василий Немирович-Данченко, между тем, пошёл на поправку и уже просил Виноградова провести для него экскурсию по Иркутску. Но Александр Иванович под любыми предлогами откладывал: его чрезвычайно смущали пробоины, ямы и непролазные болота на улицах, в особенности у здания городской думы. — Не будь нынешняя весна столь ранней, припорошённый снегом Иркутск вполне сошёл бы за европейский, цивилизованный город, — сетовал он корреспонденту Родионову, — сейчас же со всею неприглядностью видно, что только Большая и Пестерёвская замощены. — Управа требует, чтобы домовладельцы планировали полотно улиц по профилям, но до сих пор никому ещё не выпадало счастье лицезреть эти профили, — подхватил любимую тему Родионов, почти процитировав концовку только что законченной им статьи. В день, когда Немирович Данченко выбрался на экскурсию, город так забросало снежными кружевами, что Василий Иванович был совершенно очарован. «А писателю и полезно иногда оказаться очарованным», — подытожил довольный редактор губернской газеты. В разгар войны — образцовая кузница? 21 марта 1904 года на Мелочном базаре установили новые балаганы, и на другой же день в них обосновались мясники. Шла страстная неделя, и в ожидании Пасхи торговцы подвозили живых индеек и телят. Индейкам связывали ноги и подвешивали их на гвоздь, головами вниз. Наборщик «Иркутских губернских ведомостей» рассказал об этом в редакции, и в следующем номере появилась заметка о жестоком обращении с птицей. Газетный хроникёр был так возмущён, что невольно приписал свои чувства и публике, но для завсегдатаев Мелочного базара подобные сцены были, к сожалению, обыкновенны. Так же, как на Сенном базаре никто не удивлялся, что птичьи клетки переполнены, и в них нет ни корма, ни воды. Само слово «птица» (как и слово «животное») было там не в ходу — говорили: «товар» и «скот». Каждый раз весна в Иркутске начиналась под лязг полозьев на Большой. Снег здесь таял раньше, но биржевые извозчики продолжали выезжать по-зимнему, на санях, а на вопросы отвечали, что летние экипажи ещё-де не смазаны и вообще: «неча портить их и марать». В результате лошади выбивались из сил, особенно на взвозе с вокзального плашкоута, где и на колёсах-то поднимались с трудом, а на санях, да с немалым грузом, было одно мучение. Даже видавшие виды полицейские возмущались, но поделать ничего не могли: иркутской думой не было официально установлено время, с которого бы запрещалась езда на санях. В нынешнем 1904 году под Иркутском началась массовая гибель овражек: зверьки с громким писком выскакивали из норок, катались по земле и вскоре околевали. Газеты сочувственно писали об этом, но жители окрестных деревень относились индифферентно; их заботило совершенно другое: хватит ли на зиму кормов? А часто и не хватало, и в ожидании первых проталин коров, лошадей и овец «потчевали» горьким болотным сеном и ветошью. По весне заморённые лошади через силу таскали соху. «Вообще, крестьянские кони находятся в невозможных условиях, — писали «Иркутские губернские ведомости». С конца 1901 года в местной печати замелькало: «Обращаем внимание членов иркутского Общества покровительства животным...» А открылось это Общество стараниями педагога Иннокентия Иосифовича Концевича. Он был из ссыльных, поэтому и идеи его воспринимались многими как «привозные и вообще политические». Однако со временем появились и сторонники этих идей, городская управа установила ограничения для перевоза тяжестей ломовыми лошадьми, сделала обязательной посыпку понтонного моста, а иркутский полицмейстер предписал подчинённым задерживать всех замеченных в истязании животных. И всё же на третьем году существования Общества его члены начали заявлять, что следует думать о защите людей, а не животных. И вот в этот-то критический момент новый начальник края, граф Кутайсов любезно согласился стать покровителем Общества, а его супруга с готовностью приняла на себя обязанности председательницы. И сейчас же обратила внимание на жестокий способ отлова бродячих собак. Иркутский гражданский губернатор Моллериус с супругой, подумав, внесли 30 рублей на исправление ситуации, что послужило сигналом для предпринимателей: А.А.Второв разразился двумя сотнями рублей, по 100 рублей дали Д.М.Кузнец и Я.Д.Фризер; старейший иркутский купец И.А.Мыльников пожертвовал 50 рублей. Глядя на это, и местное общество любителей конского бега собрало весьма внушительную сумму. Такой приступ любви к животным привёл к тому, что в разгар русско-японской войны в Иркутске открылась лечебница для животных. Ежедневно, с 12 и до 2 часов дня любой горожанин мог обратиться сюда со своими питомцами. Ветеринарная помощь крупному животному оценивалась в 1 рубль, мелкому — в 50 копеек, птице — в 25 копеек. Операции оплачивались по договорённости, но малообеспеченным иркутянам достаточно было принести свидетельство о доходах, чтобы их животных лечили бесплатно. А с началом гололедицы Общество покровительства животным пригласило извозчиков в образцовую кузницу, где каждая лошадь могла получить новую, зимнюю «обувь» — подковы с острыми шипами. Правда, приглашением воспользовались не все: техосмотр экипажей не включал ещё обязательный пункт о способах ковки. На 1 января 1904 года в Иркутске насчитывалось 6854 лошади, 3065 голов рогатого скота, 1001 свинья, 23 овцы, 210 коз. Из других животных встречались, например, обезьяны. Так, одна из них проживала в доме 67/8 по улице Троицкой, у господина по фамилии Дубовик, и в августе 1904 года была выставлена на продажу вместе с гончей. Кстати, в переписи 1904 года число собак почему-то было опущено; между тем, в доходной смете Иркутска на 1905 год сбор с собак представлял немалую сумму — 1890 рублей. На такие деньги и приют для животных не грех бы открыть. Увы, это стало возможным лишь на средства благотворителей, да и то под нажимом генерал-губернатора Кутайсова. А гражданский губернатор Моллериус каждую весну рассылал по уездам распоряжения о запрете на охоту. И каждый раз напоминал: козы в эту пору беременны, шерсть у них жесткая, а мясо сухое. Об этом крестьяне и сами, наверное, знали, однако каждую весну, когда козы выходили к кустарникам, направляли по насту собак. Тонкая корка льда, выдерживавшая мягкие лапы, ломалась под копытцами убегающих коз, обдирая им ноги до костей. Когда охотники добирались до места расправы, то находили растерзанных животных, от которых совсем уже не было прока. Но проходил год — и всё повторялось снова. Осенью 1894-го молодой фламинго оставил южную родину, взяв курс на восток. Это был разведчик, отправившийся на поиск новых мест. Сильный, выносливый, он и залетел далеко, до самых живописных окраин села Введенщина. Где и был застрелен местным крестьянином, назвавшим его просто «красным гусём». В ожидании чуда В воскресенье 28 марта 1904 года «Иркутские губернские ведомости» открылись торжественным «Христос воскресе!» А весь предшествующий день редактор Виноградов был очень задумчив: просил чай, но так и не отпил ни глотка, не расслышал громко заданного вопроса... Александр Иванович старательно вспоминал сегодняшний сон, собирал его из обрывков, и хоть целая картина не складывалась, постепенно прорисовалось: детская, няня у незашторенного окна, торжественная, подрагивающая тишина и, наконец, первый, гулкий удар соборного колокола, возвещающий чудо воскрешения. В кафедральном соборе было многолюдно, но знакомые из губернских чинов посторонились, и Александр Иванович Виноградов оказался почти рядом с губернатором Моллериусом и его супругой, Анастасией Петровной. Впереди стоял генерал-губернатор Павел Ипполитович Кутайсов, без супруги. Иркутск в жизни графини Кутайсовой возник неожиданно. В 1903-м мужа назначили членом Государственного Совета, что означало вершину карьеры и начало размеренного существования, весьма желанного для 66-летнего генерала, участника Севастопольской обороны, покорения Кавказа, кампании 1870 года. И вот, когда всё, кажется, успокоилось, явилось вдруг новое назначение, и куда бы — в Сибирь! Словно в написанную уже книгу вклеили дополнительные страницы. Графиня лично озаботилась приготовлением тёплых вещей, и всё-таки первая зима в Иркутске показалась ей чрезвычайно холодной. Двадцать лет назад, когда граф управлял Нижегородской губернией, Ольга Васильевна Кутайсова была очень деятельна, теперь же, как ни бодрилась, не могла уже отстоять всенощную. Возможно, поэтому весь вчерашний день у неё копилось чувство вины. К вечеру графиня распорядилась передать арестантам пасхальный подарок (пуд пилёного сахара и 15 кирпичей чая), а сегодня отвезла 25 рублей в приют для девочек — на праздничное угощение. На обратном пути Ольга Васильевна задержалась на Тихвинской площади, где, несмотря на грязь, множество народа веселилось в балаганах, на качелях и каруселях. Фонограф Эдиссона представлял «концерт невидимок», театр «Весельчак» удивлял акробатическими трюками, а синематографист Дон-Отелло демонстрировал снятый на плёнку подрыв японского броненосца. Более обеспеченная публика собиралась в кондитерской Ходкевича, где в изобилии предлагались куличи, ром-бабы, торты, мазурки, пляцки, баумкухены и пасхи. Коммерсанты из успешных высаживали своих дам у магазина Верхоленцева, предлагая на выбор яйца золотые, серебряные, бронзовые, каменные, стеклянные, фарфоровые, шёлковые, с сюрпризами и без. Проехав по большим магазинам, Кутайсова обнаружила предметы роскоши и вещи художественной работы, в разных стилях и на разные вкусы. Продавалась и новинка сезона — касторовые шляпы; графиня прищурилась, разглядывая — и невольно обратила внимание на молодую женщину, из простых, с цилиндром в руках и странным выражением на лице — одновременно решительным и растерянным. Это была иркутская мещанка Серафима Кочкина, имевшая доходный дом на Сарайной. Двухэтажный, но всё-таки небольшой, так что когда его разбили на «номера», хозяевам пришлось съехать во флигель. Конечно, Серафима Петровна и там устроилась с уютом, но, сказать правду, радости было мало: квартиранты шумели и ссорились, дом потихоньку гнил, а муж Пантелеймон с утра до вечера тупо просиживал в лавке, не дававшей дохода, да вставлял, к месту и не к месту, любимое своё «дело в шляпе». Нынешнею весной снег у дома Кочкиных, как и везде, сошёл прежде обычного, обнажив и навозные кучи у ворот. Пантелеймон с вывозкой затянул, как обычно, и Серафиму оштрафовали на 25 рублей, да ещё и пригрозили арестом. Пришлось отказаться от праздничного стола, ведь при нынешних, военных ценах самое скромное угощение и какие-никакие подарки уже не укладывались в привычные тридцать рублей. А Серафима с самого Рождества ещё думала разориться на серебряное яйцо — ей хотелось убедить себя и других, что дела у них, Кочкиных, не так уж плохи. Отдав штрафные, Серафима положила весь праздник с Пантелеймоном не разговаривать и даже кулич ему не испечь. И домой она нынче решила не торопиться и два часа просидела у товарки. К флигелю подошла уже в сумерках и сразу обратила внимание, что как-то тихо вокруг. Квартиранты не ссорились, ребятишки не кричали, слышно было только, как двери в лавку ходили туда-сюда. Удивлённая, Серафима пошла по дорожке и у входа наткнулась на сочувственное: — Пантелеймона-то, стал быть, того, на фронт... Всё, говорит, дело в шляпе. ...Эшелон на восток отправлялся из Иркутска во вторник, а накануне установился такой тёплый и солнечный день, что Кочкины распорядились выставить столы прямо во дворе. На проводины пригласили всех до единого квартирантов, вместе с их «невозможными детьми». Серафима всплакнула, но тут же взяла себя в руки и велела «ни про что грустное нынче не говорить, а только про весёлое». И торжественно водрузила Пантелеймону на голову «из городу Парижу цилиндр — на возвращение!» И Пантелеймон не сказал обычного «дело в шляпе». А только обнял свою Симу да стал что-то нашёптывать на ухо. Но гостям, впрочем, было и не до них: после Великого поста возвращение к окорокам, фаршированным курицам, уткам, индейкам, рулетам из дичи, свинины, телятины было так приятно и радостно! С возвращением покупателя колбасные мастерские и коптильни понеслись на полных парах, забывая не только об отдыхе, но и об осторожности. Василий Дьяков, двоюродный брат Серафимы Кочкиной, так «раскочегарился», что не уберёгся и от пожара: его коптильня на Сарафановской, 9 средь бела дня в одночасье спалилась вместе со всеми колбасами, дав убытка на 1100 рублей. А ведь Василий только что сговорился поставлять свой товар в новый ресторан на Троицкой! — Хорошо ещё, что бумаг я никаких не подписывал, а то бы ведь и неустойку платить заставили, — со страхом рассказывал он Серафиме. — Радуйся, что хоть сам-то остался жив-здоров! В городе вон что творится: скарлатина лютует, оспа, корь. В дворянском институте уже две барышни умерли, остальных по домам распустили, до осени. В женском училище карантин, и видно, не дождаться мне в этот раз племяшку Евлампию на каникулы. А уж как я надеялась: тошно мне без Пантелеймона-то, Вася. А писем-то и нет ещё ни одного. — Будто он охотник писать, твой Пантелеймон! Да и время ещё покамест не вышло. Ты мне, Сима, лучше про другое скажи: вот давеча мужики рассказывали, будто бы 21 марта провезли на Дальний Восток белого коня для генерала Куропаткина. И что будто бы этот Куропаткин и есть покойный Белый генерал Скобелев. Серафима молча допила чай, отодвинула кружку почти на середину столика, встала: — О-ох, правду, видно, говорят: светопреставление начинается, ежели мужики в Сибири так повредились умом! Ту же мысль, только в более подходящей для публикации форме, выразила и редакция «Иркутских губернских ведомостей»: «Легенда о Белом генерале Скобелеве получила новое «подтверждение». Всё же до чего мы безнадёжно наивны и провинциальны»! За что страдают арендные статьи С начала апреля обитатели Петрушиной горы разыскивали городского землемера. Отчаявшись, даже пожаловались в редакцию «Иркутских губернских ведомостей»: «С назначением землемера ещё и заведующим лесными угодьями его совершенно нельзя добиться». Напомнили и историю с мещанином Серкиным, вот уж десять лет выхаживающим у города 180 саженей земли по 3 Иерусалимской улице. Страсти вокруг земельных участков подогрело мартовское заседание думы, на котором гласный Концевич сделал резкое заявление: городские земли никак не упорядочены, точных данных по ним положительно не существует. Сборы с недвижимых имуществ по-прежнему считались основой городского бюджета, но под таким имуществом понимались, главным образом, здания и сооружения. О земле же вспоминали при случае, скажем, когда, купчиха Комарова собиралась построить в Лисихе винный склад и просила участок в аренду. Правда, в бытность иркутским городским головой Владимира Платоновича Сукачёва наметился новый взгляд на землю: летом 1894 года остров Любви, служивший прибежищем для молодых, был объявлен сенокосным участком №1 и пополнил бюджет весьма симпатичной суммой. Неплохие деньги принесли и участки на берегах Ушаковки и Ангары, сданные под выгрузку лесоматериалов. По настоянию же головы была сделана и переоценка городских земель. К сожалению, Владимир Платонович вскоре уехал из Иркутска, а в управе взяли верх господа совершенно иного толка. До 1896 года иркутская городская управа почти не обращала внимание на использование свободных земельных участков, и они без стеснения захватывались, а после и закреплялись — по закону о давности владения. Особенно страдали живописные места в распадке Кайской горы, на которых рабочие-железнодорожники самовольно ставили балаганы, рыли землянки. Березовые рощи, ещё недавно служившие местом прогулок для обывателей, «новожилы» без стеснения пускали на дрова, заваливали отходами. После переоценки земель, проведённой в Иркутске в 1896-1897 гг. дума решила зарегистрировать все принадлежащие городу участки (как свободные, так и захваченные) и определила арендную плату от 3 до 5 копеек в год за 1 квадратную сажень. Заведён был специальный журнал с подробным перечислением всех самовольно занятых участков. Далее предполагалось выставить их на торги, сдать в аренду, обеспечив бюджет постоянным источником дохода. Но столь важное дело, за которым нужен глаз да глаз, было отдано на откуп одному единственному человеку — городскому землемеру. Он нарезал участки безо всякой системы; случалось, отдавал земли, уже находящиеся в собственности. Например, весной 1904 года иркутяне Соколовский и Комаров обнаружили, что на их земле строятся незнакомые люди. Нередко участки выбирались прямо из вагона проходящего поезда: пассажиры высаживались, рыли землянки, не задумываясь о том, что красивое, но слишком низкое место непригодно для жилья. Наступала зима, и Ангара, натурально, входила в жилища, вставала у самых подоконников. Но отчаянные переселенцы стелили поверх вторые полы и жарче топили железные печки, чтобы лёд начал таять... К началу 1904 года, как минимум, триста земельных участков, принадлежавших городу, оставались в руках захватчиков. Съезжать с насиженных мест они решительно не желали, но и контракт на аренду отказывались заключать. Главной причиной называлась высокая арендная плата, а для беднейших слоёв она, в самом деле, была неподъёмной. Так, контракт на аренду 320 квадратных саженей земли (около четырнадцати с половиной соток), заключённый Иркутской городской управой с семьёй Пашковых, предполагал ежегодную плату в 9 рублей 60 копеек в год, плюс 80 копеек госпошлины. Но большинство обывателей не имело более 20 рублей месячного дохода, пенсии же в ту пору вообще были редкостью. По условиям контракта, город не брал на себя никаких обязательств, а вот обязательства арендатора прописывались детально. Скажем, если на отведённой земле был кустарник или лес, требовалось оставить нетронутой полосу шириною в 1/2 сажени от водосточной канавы и тщательно оберегать её. В определённый управой срок арендатор должен был обнести участок забором; при этом всякое отступление от Строительного устава каралось, власти могли снести всё возведённое и продать по своему усмотрению. Могли продлить контракт, но могли и не продлевать, и даже расторгнуть его раньше срока, если какое-то из условий оказывалось выполненным недостаточно хорошо. То есть, законопослушные горожане оказывались в куда более худших условиях, чем самовольные застройщики, и не случайно последних становилось всё больше, а бюджетных поступлений по арендным статьям — всё меньше. Так, если в 1899 году недоимка составляла всего около 40 рублей, то в 1902 году — уже 7329 рублей. За восемь лет со времени переоценки земель и до Русско-японской войны лежащий под ногами города капитал так и остался неоценённым и невостребованным. Послевоенное повышение цен значительно увеличило расходную часть бюджета, доходная же осталась на прежнем уровне — Иркутск беднел на глазах, являя признаки уже хронической болезни. «Город, ежегодный бюджет которого простирается свыше 700 тысяч рублей, состоит собственником самого разнообразного имущества, стоимостью до миллиона рублей. Вести учёт такой ценности необходимо, — призывали «Иркутские губернские ведомости» в январе 1904 года. — Как положительно известно, до настоящего времени не существует даже точного плана города. Достаточно взглянуть на так называемый «план», чтобы человеку, знакомому со Строительным уставом, впасть в ужас. Иркутск, конечно, азиатский город, но по разбросанности он кажется прямо-таки черкесским аулом. По Строительному уставу для возведения построек требуется разрешение, но пройдитесь по Саломатовской, и вы увидите до девяти помещений в одном дворе, с сеновалом в центре. Сооружения, водопроводы, канализация, строительство и содержание мостов, освещение, составление смет, нивелировка улиц, артезианские колодцы — всем этим должен ведать технический отдел. Но не ведает. Технический отдел вообще принадлежит к числу семи хронических язв городской управы. До настоящего времени он делил свою власть с городским архитектором, который, в свою очередь, представлял из себя только знак вопроса. Ахиллесова пята отдела ещё и в том, что техники вместе с тем и не техники, а только практики, без специального образования. Между тем, оклады имеют хорошие, во многих земствах европейской России дипломированные специалисты получают менее». Что-что, а хорошие оклады у нас не прощались никогда, и отчасти благодаря этому иркутская городская дума учинила управе основательную проверку. Результаты оказались столь ужасающими, что гласные решили отдать членов управы под суд и даже избрали комиссию по определению суммы иска. Однако она собралась раза два, а затем её члены один за другим начали слагать полномочия. «Задуманное осталось в области пожеланий и предположений, как всегда и бывало в нашем городском управлении», — подытожили «Иркутские губернские ведомости». — А в фельетоне «Злобы дня» высказались ещё более определённо: «Пётр Иванович за управу горой стал стоять, когда у него управа купила строительные материалы. Не купи, он бы до сих пор состоял в оппозиции. Так и все». Семейное «предприятие» В апреле 1904 года из Иркутска шли эшелоны запасных нижних чинов, а в опустевших деревнях тяжеленько вздыхали: «Без мужицких-то рук хлебушко не посеять и не убрать»... Между тем, солдатки начали получать первые пособия от казны, из расчёта: 4 фунта соли, 10 фунтов крупы и 1 пуд 28 фунтов муки на душу. По ценам отдалённого Киренского уезда выходило по 16 копеек в сутки, так что женщина с тремя детьми могла рассчитывать на 19 рублей 20 копеек ежемесячно. На семью же из девяти человек приходилось по 43 рубля 20 копеек — сумма для деревни той поры несказанно большая. Было от чего растеряться. Одна нижнеудинская мещаночка, получив перед Пасхой 28 рублей 50 копеек, впервые за всё время замужества купила себе шерстяной материи на платье и впервые же наняла модистку за 3 рубля. Соседи ей этого не простили и немедленно разразились доносом в Иркутск: «Наш городской комитет по оказанию помощи семьям нижних чинов, ушедших на театр военных действий, довольно щедро производит пособия, а именно по 20 рублей 50 копеек. Да из земских сборов те же семьи получают по 8 рублей. Приведу для иллюстрации, как одна семья, состоящая из матери, вполне способной к труду, и трёх детей, получила 28 рублей 50 копеек. И что же, вы думаете, она купила на это пособие? Платье, туфли и калоши! Люди, знающие это семейство, говорят, что муж, ушедший на войну, никогда не имел заработка 28 рублей 50 копеек в месяц, и жена его так никогда не рядилась!» Ещё одна солдатка купила швейную машинку — и немедленно лишилась «права на бедность»: комитет помощи семьям нижних чинов перевёл её из нуждающихся в зажиточные и в дальнейшей помощи отказал. Хотя, может, в душе многие понимали эту бабу и считали мобилизационное законодательство наспех скроенным и слишком зауженным. К примеру, солдатки, прежде бывшие замужем и овдовевшие, получали пособие лишь на детей от второго брака. Мать солдата и сестра с малолетними детьми вообще не могли рассчитывать на поддержку казны. Не случайно с открытием военных действий начали создаваться и различные общественные организации для призрения обделённых. Формально они проходили как структуры негосударственные, но их спущенность сверху была очевидна, и все состоятельные и просто известные лица на местах стремились «засветиться» в этих организациях. Но ещё раньше таких полуофициальных структур явился и сугубо частный кружок непосредственной помощи нуждающимся воинам. О его открытии газеты сообщили в середине февраля, но к этому времени он отправил уже на фронт первую партию тёплых вещей, совершенно необходимых солдатам в холодное и сырое время. Были в огромной посылке не только фуфайки и стёганые куртки под мундир, но и ватные нагрудники, набрюшники, портянки, непромокаемые накидки. Позаботились и о крепкой обуви с материалом для починки, и о мешочках с чаем, личных аптечках с кровоостанавливающими средствами, широкими марлевыми бинтами, удобными лубками и дезинфекционным порошком. Отчёты о работе кружка регулярно публиковались в «Иркутских губернских ведомостях» за скромной подписью: «Д.Иванов». И лишь очень внимательные читатели могли догадаться, что это — начальник Горного управления, действительный статский советник Дмитрий Львович Иванов. Квартировал он в доме Вильмонт на 1 Солдатской, и многим из бывавших здесь доводилось слышать, как хозяин читает «Рассказы раненых», записанные им четверть века назад, в разгар русско-турецкой войны. Тогда в Петербурге рассредоточили большую партию нижних чинов, и несколько энергичных горожан объединились, чтобы оказать им посильную помощь. Это было исключительно частное предприятие, в котором каждый делал то, что у него всего более получалось. Кто-то организовывал раненым усиленное питание, кто-то обеспечивал их новым обмундированием, а молодой человек по фамилии Иванов взялся записывать бесхитростные и суровые в своей правде рассказы. Очень часто сквозь них проступал неустроенный армейский быт, так похожий на нынешнюю мобилизационную толкотню, не случайно и родившийся в Иркутске кружок ставил целью прямую помощь нуждающимся воинам. Идея кружка родилась в тот самый вечер, когда на квартире у Ивановых читали Высочайший Манифест о начале военных действий на Дальнем Востоке. Супруги Илларионовы, бывшие в гостях, сразу же поддержали Дмитрия Львовича, супруги Тихомировы набросали план действий, а супруги Оранские предложили свою квартиру под швейную мастерскую. Так-то в считанные полчаса четыре семейных пары основали новое «предприятие». На другое утро в квартире у Оранских уже двигали мебель, а в магазинах на Большой обсуждали возможность дать в бесплатное пользование портновские ножницы и швейные машины. И дали — ещё до того, как Дмитрий Львович вернулся от губернатора с разрешением на открытие нового кружка. Семь месяцев, не исключая и праздничных дней, Наталья Михайловна Оранская открывала двери своей единственной квартиры для швей-волонтёров, среди которых были и жёны крупных предпринимателей, и воспитанницы Сиропитательного дома, и барышни из института благородных девиц, и девочки из Владимирского приюта. Речь, манеры, одежда, привычки — всё разнилось, но, переступая порог мастерской, каждая ощущала себя просто иркутянкой, помогающей фронту. И иркутский губернатор возвращаясь из командировок в столицу нагруженным тысячами фуфаек, варежек и носков для солдат. И иркутские предприниматели, все эти Бревновы-Воллернеры-Кальмееры-Метелёвы-Щелкуновы, отпуская материал для кружка, делали уступку до 20 %. Горожане же без свободных денег устраивали благотворительные спектакли и лекции. Горный кружок непосредственной помощи воинам имел постоянную телефонную связь со станцией Иннокентьевской, и каждая заявка с проходящего эшелона исполнялась незамедлительно, на перрон тотчас же выставлялось нужное количество медикаментов, одежды, обуви, бумаги и прочего. Кроме того, уполномоченные кружка отправлялись к местам военных действий, проверяли оснащённость не только госпиталей, но и партизанских отрядов. Один из них нашли крайне обносившимся, срочно телеграфировали в Иркутск — и уже несколько дней спустя вручали посылки со всем необходимым. Для лучшей организации дела в Хабаровске был открыт филиал иркутского горного кружка, в Харбине «завербован» в агенты энергичный капитан по фамилии Тыртов; в действующей же армии «агентами» кружка были генерал Трепов и собственно главнокомандующий. Широкая «агентурная сеть» была разбросана и в тылу, где уполномоченные кружка собирали пожертвования. На первых порах основным источником средств были отчисления от прибылей Черемховского углепромышленного района, а также 1-2 % из жалования служащих Горного управления. Вскоре прибавились частные пожертвования из европейской России, Ташкента, Владивостока. Большая посылка тёплых вещей поступила от «агента» из Петербурга, доктора медицины Калачевского, крупную сумму денег прислан минский «агент» Франковский, а также пожелавший остаться неизвестным «агент» из Москвы. Кто-то брал подписной лист, а кто-то организовывал в пользу кружка спектакли, лекции. Андреевский Красный Крест при Иркутском архиепископе передал четыре мешка ржаных сухарей, воспитанницы иркутского института Императора Николая I — пятнадцать фунтов сахара, иркутские книжные магазины — журналы для чтения. Пожертвования принимались во всякое время дня, не исключая и праздников, на складе иркутской золотосплавочной лаборатории. Удобного режима приёмки добились очень просто — ввели в Совет кружка инженера Лабзина, живущего в служебной квартире при лаборатории. К середине сентября 1904 года в горном кружке насчитывалось уже 800 человек, то есть в десять раз больше, чем при его открытии в конце января 1904 года. Но даже и те, кто формально не состоял в кружке, находились под влияние его ауры, заряжались его электричеством. Семья Люблинских, приняв на постой семерых мобилизованных из бедствующих переселенцев, сразу же поставила их на усиленное довольствие и, натурально, откормила. А перед самой отправкой на фронт и обмундировала. Кутуликские школьники вместе с педагогами дали четыре спектакля в пользу семей нижних чинов, ушедших на войну. Помощь юных артистов пришлась как нельзя кстати — пособие семьям воинов от казны задерживалось. Неудобный вопрос Номер «Иркутских губернских ведомостей» от 15 апреля 1904 года был уже свёрстан, когда в редакцию вбежал корреспондент Родионов и стал настаивать, чтобы поставили его материал. На Родионова это было не очень похоже, но ещё более редактора удивило другое: текст-то был о Марии Пуаре! Она остановилась в Иркутске проездом на фронт, в составе группы военных корреспондентов. Интервью с отважной дамой было поручено Родионову, но не складывалось. Пуаре изначально раздражала корреспондента губернской газеты — уже тем, что ей, «певичке из оперетки», доверено было представлять на театре военных действий газету «Новое время». И когда она заболела, у Родионова появился хороший предлог отложить интервью. А потом он отправился в небольшую командировку, в надежде, что к его возвращению артистки уж и не будет в Иркутске. Но в первый же день встретил «военную корреспондентку» в музее. Мария явно недомогала ещё, однако это не помешало ей «выпотрошить» учёного, опрометчиво согласившегося «дать небольшое пояснение к одному экспонату». Дня через два Пуаре заскочила в редакцию поделиться впечатлениями об «экскурсии» в иркутский ночлежный дом. Этот рассказ, торопливо набросанный большими мазками, удивил Родионова точностью характеристик, а ещё более — уверенностью, с какой Пуаре обращалась с материалом. Казалось, он сам шёл к ней в руки и преломлялся в них, принимая причудливые, но при этом полные жизни формы. Родионов озадачился, даже смутился и неожиданно для себя согласился сопровождать Пуаре в иркутский тюремный замок, а потом — на благотворительный вечер, организованный супругой генерал-губернатора графиней Кутайсовой. В обществе первых иркутских дам Пуаре была молчалива, прочла только проникновенное стихотворение (Родионов догадался: своё!) и очень сожалела о том, что не может ещё дать концерт в пользу Красного Креста. Впрочем, она тут же вынула все наличные деньги и отдала их графине Кутайсовой на благотворительность. В одно из посещений «Иркутских губернских ведомостей» Мария обнаружила в кипе старых газет брошюру под названием «Больное место». Автор Е.Семенов сообщал, что в разное время на Саломатовской, Матрёшинской, Блиновской и даже в самом центре города, на одной из Солдатских, располагались дома терпимости. Но улицей красных фонарей называлась всё же Подгорная, буквально кишевшая борделями. Они наполнялись крестьяночками из ближайших деревень, ищущими лёгкой доли, и мещаночками с самых дальних, самых пьяных иркутских улиц. На «девушек» очень часто заявляли в полицию, обвиняя в обворовывании клиентов. Но и сами клиенты, случалось, стреляли в них, резали их, били и даже убивали. В хронике происшествий мелькали и сообщения о самоубийствах проституток, и в таких случаях практиковался обычно простой и дешёвый способ — выпивался раствор фосфорных спичек за семь копеек. Время от времени несколько гласных иркутской городской думы предлагали на европейский манер обложить публичные дома налогом, однако им никак не удавалось получить необходимого большинства голосов. Этот «неудобный вопрос» стыдливо переносился из заседания в заседание, с весны на лето, с осени на весну. Правда, с открытием театра военных действий думские всё-таки забили тревогу — стало очевидно, что скопление в городе запасных чинов чревато эпидемией сифилиса. Иркутский губернатор настойчиво продвигал идею учреждения в городе специального санитарного бюро, и гласный-врач Константин Маркович Жбанов активно его поддерживал; наконец, это предложение внесли в повестку заседания 13 апреля. Марии Пуаре, сидевшей в дальнем углу думского зала, за спиной Родионова, само это дело представлялось чрезвычайно простым. Она и не пришла, но очень уж хотелось лицезреть городское самоуправление. К тому же появление в думском зале инкогнито, в мужском костюме представлялось забавным. Впрочем, почувствовать себя актрисой Марии Яковлевне не удалось: происходящее перед её глазами было настолько театрально, что от первой до последней минуты она ощущала себя просто зрительницей. Сначала на сцену вышел гласный Попов, издатель газеты «Восточное обозрение». Оглядев зал насмешливым взглядом, он заявил, что «всякий надзор за проституцией излишен — как, впрочем, и существование самих домов терпимости». «Должно быть, он шутит?» — мелькнуло у Пуаре, но тут поднялся важный господин по фамилии Шостакович и не только поддержал Попова, но и добавил, что «вопрос с проституцией — специальный, и дума не компетентна им заниматься». Попов, севший было на место, снова вышел и уточнил, что «хотя проституция — безусловное зло, надзор за ней оскорбителен для человеческой личности». — И из этого следует, что освидетельствовать нужно не проституток, а их посетителей»! — развил его мысль Шостакович. Пуаре невольно переглянулась с Родионовым, но в это время слово взял пожилой господин, которого все называли «Патушинский-старший». Он разразился страстным монологом о том, что «практика, здравый смысл и требования этики — всё против вторжения в частную жизнь женщины. Борьба с развратом должна состоять в распространении образования, а не в репрессивных мерах, принижающих личность»! Патушинский остановился набрать воздуха, и в наступившей паузе все расслышали язвительное замечание доктора Красикова: — Какой, однако, темперамент, и где — в деловом заседании! — А полученный от природы темперамент в передней не оставишь, — взвился Патушинский-старший — и демонстративно удалился из зала. Патушинский-младший потребовал от доктора Красикова извинения — в противном случае он грозил даже выйти из состава думы. В зале поднялся страшный шум: часть гласных осуждала доктора Красикова за «неуместную здесь иронию», другая же часть, напротив, осуждала Патушинского-старшего за его уход. Кто-то кричал, что «надо составить депутацию и просить уважаемого человека вернуться» — а кто-то требовал «не потакать вздорным формам протеста». Доктор Красиков заявлял, что не извинится «ни при каких обстоятельствах», а городской голова каялся, что это он один во всём виноват, ибо должно было «как-нибудь упредить, смикшировать и обезвредить». Неизвестно, до чего бы всё это дошло, если бы один сохранявший спокойствие господин по фамилии Жарников не сказал вдруг самым примирительным тоном: — Инцидент этот лучше всего исчерпать в ресторане «Метрополь», к обоюдному удовольствию. Вернувшись в гостиничный номер, госпожа Пуаре записала: «И гласные, кто смеясь, а кто возмущаясь, разошлись, потеряв, таким образом, массу времени и так и не приняв решения по санитарному бюро». На вокзале, прощаясь с Родионовым, Мария Яковлевна спросила: — А скоро ли ваше самоуправление собирается строить капитальный мост через Ангару? — Да лет десять уж думают. — И столько же будут «думать» ещё! О том, насколько она права, Родионов тогда не догадывался, а просто написал ей вслед, в номере от 15 апреля: «М.Я. Пуаре, корреспондентка «Нового времени», вчера с утренним поездом выехала из Иркутска к театру военных действий. События влекут её на фронт, где она, как всегда, заставит себя заметить, а в область печатного слова внесёт нечто новое и талантливое». В Иркутске служили панихиды по погибшим на броненосце «Петропавловск». Среди них был и художник Верещагин, две недели назад останавливавшийся в Иркутске. Он лишь немного опередил бригаду военных корреспондентов... Переправа Ранним апрельским утром 1904 года маленький поезд, украшенный флагами, вышел со станции Култук и немного покачиваясь, отправился к Мурино. За паровозом был только один, товарный вагон и платформа, заполненная публикой. Часом позже от станции Танхой отошёл паровоз, без флагов, но с прекрасным вагоном, в котором расположились чины высшей администрации Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог. На станции Мурино поезда встретились. Участок Култук-Танхой строился с двух сторон, и на Мурино пришлась стычка пути. Сотни людей ждали этого дня как праздника; на торжество разослали многочисленные приглашения, заказали молебен, парадный обед, переходящий в ужин. Даже в меню заложен был шутливый железнодорожный «акцент»: «Циркулярная» закуска соседствовала с «Пирожками, предусмотренными договорами» и «Контрагентским бульоном». «Дичь контролерская» конкурировала со «Стерлядью разварной технической». Однако настроение у всех было хмурым, как небо в этот слякотный день. Сама смычка прошла спешно и буднично: молча прибили последний рельс и разошлись по вагонам. Танхойский поезд немедленно отошёл, но на ближайшем мосту застрял и простоял три часа. Тут уж железнодорожных чинов прорвало, и они все разом заговорили — о том, что участок сдан раньше срока, и, конечно, с большими недоделками. Что уютный мирок, образовавшийся здесь с прокладкой дороги, исчезнет, едва только уедут отсюда господа инженеры. Но всего более говорили о Порт-Артуре, пересказывая подробности телеграмм о гибели броненосца «Петропавловск». Казалось, эта остановка на мосту для того только и случилась, чтобы все могли, наконец-то, выговориться. Но к концу третьего часа последние восклицания утонули в мягких диванных подушках — и поезд, словно бы по команде, тронулся. Явились столы с приличествующей случаю закуской, и на подъезде к Култуку публика была уже совершенно готова к спичам. Программа танцев была напечатана на французском, но оказалась сугубо польской, и во время обеда всюду слышалась польская речь, да могло ли и быть иначе, если для застолья выбрали дом инженера Бернатовича? В Култуке, с прокладкой дороги разросшемся в настоящий посёлок, были два деревянных дворца, один из которых принадлежал начальнику третьего участка Дормидонтову, а другой — инженеру Бернатовичу, отвечавшему за четвёртый участок. Владение последнего совместило в себе сразу несколько архитектурных эпох. Внутри это было совершенно помещичье гнездо, даже и с хорами для музыкантов. Правда, в роли оркестра в эту ночь выступали лишь тапёр и скрипач, а в антрактах шипел граммофон; но танцевали все вдохновенно и вплоть до рассвета. Пили за разное, в том числе — за смычку культурного запада с востоком, за инженерное искусство, за стратегию и стратегов. Из персон наиболее часто назывался его сиятельство князь Хилков, министр путей сообщения. В эту пору князь, возвратившись из Иркутска в Петербург, принимал корреспондента газеты «Matin». — О сибирской железной дороге говорят, что её построили для трёх пар поездов. А ещё я слышал, что вагоны бегают прямо по льду Байкала, и посреди озера для пассажиров устроен ресторан. Это — правда? Министр не сдержал усмешки, потом помолчал и сказал просто: — Нам очень повезло — морозы стояли суровые. В зиму 1904 года лёд у берегов Байкала был гораздо больше аршина, а у порта Байкал и за 2 аршина. К приезду Хилкова в порт Байкал здесь была уже большая часть рельсов, креплений и шпал. В задумке всё выглядело исключительно привлекательно: рельсовый путь весь освещён фонарями, от столба к столбу протянута телефонная линия, а параллельно ей пущен телеграф; в конце каждой шестой версты — тёплое и вместительное помещение для отдыха, на котором (на случай метелей) подвешены колокола. А на центральной станции Середина — несколькими больших строений с двумя буфетами, ресторанного и обычного класса. Войска предполагалось пустить строем, налегке, а все вещи перевезти на подводах. Но те, кто недомогал или просто уставал в пути, могли садиться в сани, специально для этого следовавшие рядом. На случай плохой погоды железнодорожное управление наняло более трёх тысяч лошадей, да и вольные ямщики стояли наготове. Однако все предположения и расчёты стали рушиться перед угрозой землетрясения. Министр путей сообщения только-только успел переправиться с восточного берега, как раздался страшный гул, лёд на озере заколебался, затрещали стены домов. На другое утро осмотрели готовый участок пути и увидели: на нескольких десятках саженей рельсы лопнули, крепления разлетелись, а во льду образовалась трещина до двух аршин. Путь отодвинули, но трещины и нажимы немедленно образовались и там. Снова сдвинулись, но трещины тут же догнали, и в какой-то момент князя Хилкова охватило чувство беспомощности перед стихией. Отслужили молебен, трещины крест-накрест перекрыли длинными брусьями, поверх которых уложили шпалы и рельсы. При движении льда эти клетки сжимались и расширялись, но не рушились. 17 февраля на лёд было спущено свыше ста вагонов. Двигались они конной тягой, на расстоянии в 50 саженей один от другого. Первоначально для перекатки каждого вагона запрягали четвёрку лошадей, но затем сократили до двух. В отдельные дни передача вагонов доходила до 220 в день, и так продолжалось до конца февраля. Но затем произошло новое землетрясение, и новая трещина пробежала меж рельсами более чем на 20 вёрст. Напуганные рабочие, и без того уставшие и обмороженные, побежали с переправы, и Хилков немедленно вызвал взамен одну роту иркутского гарнизона. Рабочие начали возвращаться, и в начале марта ледовую линию обслуживало около 600 человек. С 6 марта началась перекатка паровозов. Для испытания взяли старенький 30-тонник и пустили его через рельсы над небольшой трещиной — легковес вдавился передними колёсами в лёд. Стало ясно, что 45-тонники здесь никак не пройдут, и тогда решили разбирать их и перевозить по частям. 7 марта на станцию Танхой благополучно прибыли первые двадцать паровозов; в следующие четыре дня переправили ещё 65. Одновременно продолжалась перекатка вагонов, товарных и пассажирских. И только-только прошли последние, как вдоль пути пошла новая, очень большая трещина. Всего с 12 января по 12 марта 1904 года было перевезено со станции Байкал на станцию Танхой, а также в обратном направлении 16076 человек и около полутора миллионов пудов грузов. Князь Хилков получил, наконец, передышку. По дороге в Москву он почти не выходил из вагона, пытаясь побороть сильный кашель. А три недели спустя уже возвращался обратно, везя первые награды за ледовую переправу. Вручение прошло буднично, на иркутском вокзале — князь спешил на участок Култук-Танхой Кругобайкальской железной дороги. В апреле 1904-го Хилков проскочил по уже талому льду перед самым выходом ледокола «Байкал». Министра, конечно же, отговаривали, предлагали задержаться, но его сиятельство был непреклонен: «Обойдётся! После всего пережитого как же не обойтись?» В Танхое он пересел в поезд и основательно обревизовал весь участок до Култука. А там сел в кошёвку и по распутице за 15 с половиной часов одолел 88 тяжёлых грунтовых вёрст до Иркутска. Ангара уже очистилась ото льда, и в городе наводили понтонный мост. Шёл сильный дождь, по склонам байкальских гор распускались подснежники, а в Лиственничном готовился к первому рейсу ледокол «Байкал». Хилков вспомнил, как рассчитывал он сэкономить, отказавшись от идеи дорогостоящей Кругобайкальской дороги (62 миллиона рублей) и купив всего лишь за пять миллионов два грузовых ледокола. Их, в самом деле, приобрели, в разобранном виде доставили Лиственничное и с успехом собрали здесь; но байкальский лёд оказался не под силу этим рафинированным европейцам. Кроме того, выходя ранним утром из Лиственничного, ледокол только к вечеру пробивался к порту Байкал. В ночь с 18 на 19 апреля на южном Байкале была страшная метель. Ямщики сворачивались и передавали друг другу, что вчерашним распоряжением министра путей сообщения всем им разрешён бесплатный провоз лошадей и саней по железной дороге — вплоть до места жительства. В борьбе за кассу 2 мая 1904 года открыла сезон антреприза, набранная известной иркутянам артисткой Софьей Абрамовной Светловой. В начале марта она арендовала летний театр в Интендантском (Синельниковском) саду, перебежав дорогу опасному конкуренту Николаю Ивановичу Брюшкову-Вольскому. И хоть он подрядился играть в Перми и уехал, Светлова тревожиться не перестала: по соседству, в клубе Общества приказчиков каждую субботу ставился какой-нибудь водевиль, на сцене Ремесленного собрания давало спектакли Общество народных развлечений, а Общество любителей музыки и литературы готовило семейные вечера со сценической частью. Мало того, в театре на Детской площадке с наступлением тепла можно было видеть и утренние, и вечерние представления. Постановками увлекалась и начальница 2-й женской гимназии Шулепникова, а помогал ей учитель рисования Денисов, известный не только как автор пьес, но и талантливый декоратор. Нанятый Софьей Абрамовной в Петербурге артист Улих предлагал этим летом ограничиться фарсами. Он так талантливо импровизировал, представляя диалог Ангары с понтонным мостом, что Светлова совершенно ему доверилась. Открыли сезон «Сверхъестественным сыном». Пьесу в труппе все знали, так что и не глядели на суфлёрскую будку, а сосредоточились ис ключительно на игре. Публика встретила постановку довольно тепло, и даже критики (вот удача!) не удержались от похвалы. В следующей пьесе Улих сыграл сразу несколько ролей, и поначалу его приняли восторженно; но, опьянев от успеха, он опустился до скабрёзностей, и газетный рецензент объявил о бацилле пошлейшей «улихенции», заведшейся в Интендантском саду. Виновной, естественно, объявили Светлову. Но Софья Абрамовна полагала, что она на верном пути — ей хотелось работать для простых иркутян, живущих хозяйством, любящих душещипательные истории и грубоватый юмор. Да, Иркутск считался городом театралов, здесь были утончённые зрители — из крупных чиновников и купцов; но со сцены Светлова прекрасно видела, что все они помещаются в ложах и партере. Галёрка же приходила продемонстрировать новый наряд, повеселиться, побиссировать, поулюлюкать. И всё же скоро стало ясно, что на этот раз Светлова и Улих явно пересолили: сначала публика была заинтригована, потом шокирована, а к середине июля даже самые терпеливые возмутились — и касса опустела. Разговоры о неудаче, постигшей антрепренёршу Светлову, ещё перемалывались, а Софья Абрамовна уже отправлялась в столицу набирать на зимний сезон новую драматическую труппу. С 20 сентября в витрине магазина Воллернера красовались фото артистов, а в Общественном собрании шли репетиции. Театралы с удивлением узнавали, что Светлова откроет сезон «Дядей Ваней», а затем пойдут пьесы «Честь», «Таланты и поклонники», «Идиот». Естественно, что и режиссёр теперь был другой — серьёзный, рассудительный Костриков-Андреев. Кроме того, Светловой посчастливилось «завербовать» талантливого декоратора Коломийцева. Конечно, завлекая на работу в Иркутск, Софья Абрамовна несколько приукрасила здешнюю жизнь, но Коломийцев оказался на редкость милым человеком — не жаловался и не терял вдохновения. Вообще, самые строгие критики соглашались, что декорации у Светловой «могли бы сделать честь любому крупному театру». Иное дело Костриков-Андреев: сторонник чистого искусства, он так углублялся в материал, что готов был мучить артистов с утра до ночи. Когда же Светлова посоветовала ему «брать полегче», предложил занять его место. Софья Абрамовна не растерялась, примерила на себя роль постановщика и даже получила от этого удовольствие; правда, «Иркутские губернские ведомости» почему-то написали, что «драма «Идиот» шла не без дефектов и местами не по Достоевскому»... Впрочем, ничего другого от такой зловредной газеты Софья Абрамовна и не ждала. Но в одном с рецензентом пришлось согласиться: публики на спектакль собиралось, и правда, мало. Подумав, антрепренёрша решила оставить Кострикова-Андреева в покое, и «Свадьба Кречинского» прошла хорошо. Ещё лучше могла бы получиться «Тётка Чарлея», где Улих блистал в женском платье, но концовку пьесы выучить не успели, и на премьере артисты демонстрировали образцовое незнание ролей. Суфлёр надсаживался в своей будке и в одном месте так громко подал реплику, что раздосадованный актёр рявкнул: «Тише!» Зал заулюлюкал. Встревоженная Светлова объявила понижение цен на билеты. Не помогло. Улих уверял, что всё дело в конкуренции оперы, что, если б не опера, он сумел бы наполнить зал. Но тревога уже не покидала Софью Абрамовну, и в разгар сезона она объявила переход от драмы к мелодраме. Артисты старались, как могли, и временами играли с большим подъёмом, но пьесы, взятые наспех и наспех поставленные, уже никого не притягивали. Ближе к святкам Светлова достала предпоследний козырь — спектакль-обозрение «Из жизни города Иркутска». Художественности тут было немного, зато сколько злободневности! Особенно удачно получилась карикатура на оперного артиста Сокольского: он сам приходил «на себя» посмотреть и остался доволен. Светлова так ободрилась, что вышла на сцену с сатирическими куплетами. Все стрелы направлены были на оперную примадонну Эйген, любимицу публики; вышло грубо, мелко и пошло; критики брезгливо поморщились. Костриков-Андреев торжествовал и разразился столь разоблачительным монологом, что Светлова отстранила его от работы. Узнав об этом, артистка Гордон заявила, что уходит из труппы. Дело немедленно получило огласку, и «Иркутские губернские ведомости» напечатали материал под названием «Разномыслие», дав возможность Кострикову-Андрееву представить своё театральное кредо. Прочитав публикацию, Софья Абрамовна огорчилась на целые полчаса и даже пригрозила бросить труппу. Затем просмотрела газету ещё раз — и на этот раз уже обратила внимание на маленькую заметку о биоскопе, с помощью которого ставится детская феерия «Путешествие на Луну». Антрепренёрша живо представила биоскоп во втором отделении, взлетела на сцену, где Костриков-Андреев проводил репетицию, и победно скомандовала: «Останавливай! Теперь у нас будут дети! Переходим на детей! Биоскоп оказался настоящей находкой, но школьные каникулы неизбежно должны были кончиться — и что тогда? Хорошенько подумав, Софья Абрамовна искусным образом распустила по городу слух, что касса театра при Общественном собрании совершенно пуста, и актёрам придётся идти пешком по железной дороге. Улих, правда, её от этого отговаривал, но Софья Абрамовна знала наверняка, что в Иркутске этот приём не подведёт. Здешняя публика несправедлива, капризна, но не может бросить труппу в беде. Действительно, театральные благотворители тотчас стали придумывать, как артистам помочь. А обыкновенная публика просто поддерживала Светлову ногами, приходя на спектакли вплоть до конца сезона. Из жизни энтузиастов День 9 мая 1904 года выдался погожим, и ближе к полудню от дома Сапожниковой двинулась небольшая подвода, на которой возвышались прикрытые лёгкой тканью кресла, диван, стулья, комод и другая мебель, пожертвованная Летнему театру Общества распространения народного образования и народных развлечений. Кучер направил лошадей к Троицкой, на Детскую площадку, где достраивалось здание Общества. Крышу подвели ещё в апреле, а теперь клали печи. Двери в доме стояли настежь, крепкие молодые люди ходили туда-сюда, и кучер обрадовался, что не придётся одному надрываться с диваном. Быстро нашёл распорядителя — им оказалась женщина, очень похожая на учительницу — Аделаида Эдуардовна Третьякова. Она деловито оглядела поклажу, потом немного задумалась и переспросила, для какой комиссии Общества отправила мебель госпожа Сапожникова. — Так комиссии развлечений, стал быть. — Учительница озадачилась, помолчала и добавила: — Тогда это не совсем к нам. Выгружайте во двор, а я позвоню господину Иодловскому — он приедет и распорядится. Конечно, рассуждала Третьякова, лучше бы сразу внести мебель в дом, но что скажет на это комиссия народных развлечений? Сомнения Аделаиды Эдуардовны разрешила туча, занявшая над Детской площадкой угрожающую позицию — кучер и опомниться не успел, как вся мебель перекочевала в дом. А туча вдруг рассеялась, будто и не была, дав кучеру пищу для размышлений на весь обратный путь. А госпожа Третьякова задумалась о предстоящем объяснении. Оно обещало быть непростым, судя по последнему собранию Общества. В тот мартовский вечер члены комиссии народных развлечений лишь чуть кивнули при встрече «внешкольникам», сели как можно дальше от них и отвернулись. Это был уже явный бойкот. Предметом же конфликта стало здание, поднимавшееся на Детской площадке. Изначально у Общества распространения народного образования и народных развлечений не было собственного помещения. Собираться приходилось то в зале музея Географического общества, то в городской думе. Прошлой осенью внешкольная комиссия посчитала заработанное ей за летние месяцы и решили начать строительство. Средств хватало лишь на фундамент, но главный инспектор иркутского Страхового общества Миклашевский предложил свои деньги, на которые и закупили строительные материалы, наняли рабочих. Всё свободное время члены комиссии проводили на стройплощадке, где венец за венцом, поднимался новый дом. Желающих помочь оказалось довольно много: один давал железо для крыши, другой делился досками, третий — инженерными знаниями и навыками строительства. Между тем, подошёл срок годового собрания, и внешкольная комиссия предложила в повестку вопрос о выделении средств для завершения работ. В распоряжении Общества был солидный благотворительный капитал, оставленный на открытие народных училищ, и внешкольная комиссия хотела позаимствовать из него на короткое время. Мнения членов Совета, однако, разделились: одни приветствовали идею обзавестись, наконец, собственным помещением, других же слишком раздражала «самодеятельность внешкольников». Особенно задетым оказалось руководство комиссии народных развлечений, до сих пор безуспешно пытавшейся поставить небольшой балаган для спектаклей. «Выскочек» было решено проучить, дав им бой на общем собрании 8 марта. — Строительство капитального здания нашего Общества есть факт возмутительный, нетерпимый и требующий безусловного разбирательства! — решительно начал представитель ревизионной комиссии. После чего один за другим начали подниматься члены Совета и подтверждать, что никто из «внешкольников» не заручался его согласием на строительство. А председатель Совета господин Лихачёв даже обиженно заявил: — Такое пренебрежение мнением Совета вынуждает меня в знак протеста сложить с себя обязанности руководителя Общества! При этих словах все повернулись к главной «внешкольнице» Аделаиде Третьяковой, но она промолчала. И тогда комиссия развлечений, посчитавшая, что победа близко, выскочила с проектом мирового соглашения: — Предлагаем все работы остановить, здание изъять и передать его Красному Кресту — под госпиталь. Или же приспособить под какое-нибудь училище. Все опять повернулись к Третьяковой. Она держала паузу долго, пока в зале не установилась полная, совершенная тишина, какая бывает в школе на контрольной. И тогда уже со спокойной улыбкой обратилась к залу: — А ведь действительно: было бы хорошо передать дом на Детской площадке под госпиталь! Только в этом случае комиссии развлечений пришлось бы гарантировать, что после в здании не будет ни малейшей опасности никаких заразных заболеваний. Кто-то может дать такие гарантии? Вижу, что нет. В таком случае позвольте мне сделать заявление: если члены Совета выделят деньги на завершение строительства, наша комиссия примет их с благодарностью; если нет, мы добудем их сами — но тогда уже будем вправе использовать здание исключительно по своему усмотрению. Ну а чтобы не возникали сомнения в наших возможностях, сообщаю: инженер Никитин жертвует нам 110 пудов кровельного железа, домовладелец Дубников — 5 тысяч кирпичей, а инженер Березовский готов принять на себя устройство всех дверных и оконных рам. Есть и более мелкие, но весьма многочисленные пожертвования. Кроме того, наша комиссия вскоре организует благотворительный концерт, участвовать в котором согласились все лучшие силы Иркутска. Так или иначе, а к июню дом на Детской площадке будет достроен! Аделаида Эдуардовна вернулась на место, и председателю ничего не осталось уже, как поставить выделение средств на голосование. В этот момент в зал вошёл музейный служитель: — Господа, вы у нас заседаете вот уже целый час. Нельзя ли поторопиться? Этот аргумент стал решающим, и 30 из 44 членов Общества проголосовали за выделение средств на завершение строительства. Объявляя результаты, председатель добавил, что в будущем совершенно необходимо предварительно согласовывать все постройки с Советом. Ревизионная комиссия сообщила, что остаётся при прежнем мнении, кое и требует приобщить к протоколу. А комиссия развлечений и слов никаких не нашла — вероятно, от растерянности. Большинство же членов Общества было просто довольно, что не придётся больше скитаться по чужим углам. А возникло Общество ещё в 1901 году. Ориентированное на мещанскую, мастеровую среду, оно ставило целью отвлекать от трактиров, портерных и прочих злачных мест. Начали же иркутские энтузиасты с того, что открыли детскую школу рисования. Она работала около года, но затем педагог уехал — и всё распалось. Зато прижилась идея площадки для детских игр, предложенная двумя приезжими учительницами. Одну из них, как вы догадались уже, и звали Аделаида Третьякова. На Преображенской площади вырос Детский домик, с крошечным театром-библиотекой, в будние дни превращавшимся в класс для неграмотных детей-переростков. Стараниями всё тех же учительниц Детская площадка переместилась затем на улицу Троицкую, где и началось строительство здания Общества. А в середине ноября комиссия по внешкольному воспитанию пригласила детей и взрослых на каток с большим беговым кругом, горками, буфетом и военным оркестром по воскресеньям. Взрослые платили за вход по 20 копеек, старшеклассники — по 10 копеек, а начальные классы не только пропускались бесплатно, но и обеспечивались коньками «за счёт заведения». Нашего полку убыло Майским утром 1904 года у квартиры полковника Высоцкого наблюдалось скопление офицеров: на 10 часов назначена была церемония прикрепления к древку высочайше пожалованного знамени Енисейского полка. Офицеры по одному, со строжайшим соблюдением иерархии входили к полковнику в кабинет, особенным образом убранный. И прежде чем вбить свой гвоздик, минуту-другую смотрели на полотнище ярко-голубого цвета. По углам его вышиты были двуглавые орлы, а в центре — вытканный серебром образ Спаса-нерукотворного, с надписью «С нами Бог» и царский вензель. Освящали знамя в минувшее воскресенье на главной площади, перед новым собором. Там, при большом стечении горожан, выстроились в каре четыре батальона. В центре был установлен помост, на котором и отслужил молебен высокопреосвященный Тихон. После того как офицеры приложились к благословенной иконе, архиепископ окропил войска святой водой, и стройные ряды из 4 тысяч солдат прошли церемониальным маршем. Парад принимал генерал-майор М.Д. Левестам, начальник 20 пехотной дивизии. Неделей раньше здесь же был отслужен молебен по случаю выступления на театр войны Иркутского полка. Протоиерей Верномудров благословлял на победу над язычниками; гласный городской думы Комаров обещал заботиться об оставляемых уходящими семьях. Но всего более тронули слова Дмитрия Львовича Иванова: «Прошу вас, где бы ни были вы с полком, сообщать обо всех своих нуждах — горный кружок тотчас же отзовётся! Примите на память вот эти листки с молитвой Георгию-Победоносцу и его изображением, а также наши пожелания, чтобы Святой Георгий охранял полк на поле брани»! В первую неделю августа иркутяне проводят ещё два запасных батальона — Иркутский и Енисейский. 8 августа в Благовещенской церкви примут присягу ополченцы призыва 1902 и 1903 гг., а через день телеграф сообщит об иркутском офицере В.И. Козачихине, отличившемся в производстве разведок. Слухи о гибели иркутян у деревни Вапндзяпудзы, как и все сведения о потерях, долго будут замалчиваться Петербургом, и лишь 13 июля в местной печати появится: «В боях 13 и 14 июня убиты 28 и ранены 58 нижних чинов 5 Иркутского сибирского полка, остались на поле сражения ранеными, пленными или убитыми капитан Валентин Рейнгардт, прапорщик Пётр Жданов и 54 нижних чина». Чуть позже особый отдел главного штаба по сбору сведений об убитых и раненых уточнит, что в плену в Мапуяме находятся: подъесаул 7 Сибирского казачьего полка Вениамин Водопьянов, капитан 5 Иркутского Сибирского пехотного полка Валентин Рейнгардт, прапорщик этого же полка Пётр Жданов, подпоручик 6 Енисейского сибирского пехотного полка Сергей Коварцев. 25 августа с транспортом раненых прибудет контуженный у Симучена ротный командир Иркутского полка П.С. Якубович. Тогда же в Иркутск придёт сообщение, что рядовой 5 Иркутского Сибирского полка Михаил Непомнящий награждён за мужество и храбрость. А командир 2 Сибирского запасного батальона получит телеграмму: «20 августа в славном бою под Ляояном из 36 офицеров 22 ранены и 4 убиты. Объявите проживающим в Иркутске семействам офицеров, что Станиславов, Трегубенко, Розенберг, Лютиков, Рейхард, Толча ранены, Костромитинов контужен. Станиславов и Лютиков, несмотря на ранения, остались в строю. Все офицеры и нижние чины шлют искренний привет дорогим: батальону, городу Иркутску, родным и знакомым». Командир Иркутского полка слал отчёты непосредственно иркутскому голове. Так, 13 октября 1904 года в «Иркутских губернских ведомостях» опубликована телеграмма: «Иркутский полк с особым отличием участвовал с 28 сентября в жесточайшем бою у реки Шахе, оставаясь и до сегодня на позициях. Убиты: поручик Борисов и подполковник Черепанов. Убыль нижних чинов значительна. Вечная память храбрецам, слава живым, привет родному городу, товарищам, родным и знакомым». 29 августа после Божественной литургии во всех церквах города служили панихиды по безвременно погибшим на поле брани, и никто не вышел, не отстояв до конца. По ходатайству графа Кутайсова в институте Императора Николая I учреждено 10 стипендий для дочерей убитых и раненых сибиряков. В церковно-учительской семинарии провели экзамены раньше обыкновенного: большинство учащихся были дети крестьян, ушедших на фронт, и нужно было их распустить по домам к началу посевной. Редакции иркутских газет целые полосы отводили под репортажи военных корреспондентов, принимали подписку на фронтовые телеграммы и вообще работали на подъёме: открытие театра военных действий производило брожение в обществе и поднимало тиражи. «Иркутские губернские ведомости» тоже были теперь нарасхват, в волостных правлениях, получавших только по одному экземпляру каждого номера, собирались как в избе-читальне и долго не расходились. Даже коллеги из частных иркутских газет соглашались, что официальный печатный орган даёт наиболее полную подборку фронтовых новостей. Однако, как выяснилось, не для всех это было и хорошо: однажды утром в редакторский кабинет вошла возмущённая дама, жена губернского чиновника: — Наш четырнадцатилетний сын забрался в поезд и поехал «на фронт»! Сколько мы с мужем пережили, пока мальчика вернули домой, а он опять мечтает сбежать... — Сочувствую, только чем мы можем вам быть полезны? — Так только вы и виноваты во всём: ребёнок начитался ваших военных хроник! — убеждённо ответила дама. — Теперь-то я вижу, что детям до двадцати лет следует запретить смотреть «Губернские ведомости»! — и она, не прощаясь, вышла. Полистав подшивку, Виноградов задумался, созвал всех сотрудников и объявил: — Все телеграммы о детях-героях сразу же отправляем в корзину! Кудесники от юриспруденции «Ломовой извозчик Глазков, выезжая из товарного двора станции Иркутск, сбил семилетнюю дочь кондуктора Хухлаева, сломав ей при этом правую ногу. Мировой судья приговорил Глазкова за бешеную езду к семидневному аресту или к уплате штрафа в 25 рублей,— сообщали «Иркутские губернские ведомости» 23 мая 1904 года. Отец девочки отправился за советом к присяжному поверенному Шапиро, который сразу же заявил: «Правда — ваша, и дело тут, безусловно, выигрышное. Иск, я думаю, надо составить тысячи на две. А, возможно, и более». Кондуктор, смущённый столь крупной суммой, стал пятиться к выходу, и Шапиро, вздохнув, сбавил сумму иска до 1800 рублей; но добавил при этом: «Именно этих 200 рублей может и не хватить для восстановления здоровья девочки». В 1904 году в Иркутске насчитывалось немногим более двадцати присяжных поверенных, и их имена были у всех на слуху. На открытых судебных разбирательствах блистали Штромберг, Дубенский, Масальский, Шапиро, Любавский, Пескин. Спичи, которыми обменивались защитники и обвинители, конечно, вытекали из разбираемых дел, но в то же время казались самодостаточными. В них была интрига, сюжет, и с такими неожиданными поворотами, что публика от начала и до конца просто не выходила из изумления. На иные процессы впускали только по билетам за подписью председателя суда, но завсегдатаи (главным образом, дамы) перекупали их и во всех случаях красовались на лучших местах. Пока дело рассматривалось, публика терялась в догадках, отводила душу в комментариях, порой самого невероятного толка. Но и после вынесения приговора интрига сохранялась, ибо начинался второй, заключительный тайм процесса — апелляционный. Совершенно непредсказуемый по своим результатам. Отрываясь от почвы, на которой совершено преступление, адвокатские изыски становились предметом уже «чистого искусства»; не случайно публика так замирала в ожидании, а потом — либо негодовала, либо вздыхала облегчённо. В 1904 году самым неожиданным стало оправдание осуждённой вдовы Кручинина. Псаломщик Благовещенской церкви Георгий Кручинин славился звучным, красивым тенором, послушать который у любителей пения почиталось большим наслаждением. Ещё певчий был обладателем двух внебрачных детей и скрипки, а ничего другого к сорока годам не нажил, даже и собственного угла. И вот вдруг, в одночасье получает он хорошенькую жену шестнадцати лет от роду и приданое в 20 тысяч рублей! Такого поворота не ожидал никто, а всего менее юная супруга Ираида. Она была единственной дочерью состоятельных родителей, могла получить хорошее образование, однако дальше прогимназии не пошло: кавалеры рано заняли её воображение. Отец даже и угрожал расправой приказчикам из соседнего магазина, «совершавшим экскурсии через забор». Приказчики присмирели, а вот дочка — нет. И довела-таки батюшку до удара. На поминальном обеде она села рядом с псаломщиком, и короткое время спустя приданое уже было у них в руках. Но если Кручинин радовался нежданному счастью, то Ираида считала, что муж слишком стар для неё, и при свидетелях обещала его «извести». Псаломщику доносили о её любовных похождениях, но жена была для него совершенно вне подозрений, и даже первое покушение на убийство не разрушило его веру. Да и во время второго, уже со смертельной раной, он кричал: «Раечка, спасайся!» Когда окружной суд приговорил Ираиду Кручинину к 15 горам каторги, никому из публики это не показалось излишне суровым наказанием. Но апелляция, составленная в минуты вдохновения, со всем блеском таланта и дерзким стремлением сделать-таки невозможное, произвела в столице очень сильное впечатление. И 16 декабря 1904 года «Иркутские губернские ведомости» сообщили уже без комментариев: «По делу об убийстве псаломщика Кручинина обвиняемым вынесен оправдательный приговор». Кудесники от юриспруденции были открыты для каждого. Они принимали даже и у себя на квартирах, и летом, отъезжая на дачи, публиковали номера телефонов, по которым их можно было найти. Собственных домов и дач у них, как правило, не было — большинство поверенных попадали в наш край волей случая. Но нередко приживались, становились частью здешнего общества, постепенно воспринимая его установки. А неотъемлемой составляющей хорошего тона в Иркутске той поры было покровительство слабым. Благотворительность уже не предполагала миллионных пожертвований и принадлежности к классу негоциантов. Представители разных сословий собирали необходимые средства спектаклями, концертами, лекциями. В общественной Михеевской лечебнице иркутские доктора оказывали безвозмездную помощь не только днём, но и ночью. Во всех гостиных Иркутска обсуждались какие-то общественные начинания, и в такой атмосфере присяжные поверенные просто должны были что-то сделать, дабы ответить на ожидания общества. Они и ответили — открытием доступной для всех юридической консультации. В любой будний день, с 11 часов в здании судебных установлений открывалась консультация присяжных поверенных. Была установлена символическая плата, в то же время каждый мог получить бесплатный совет — достаточно было просто сказать о денежном затруднении. Поначалу отведённая под консультации комната была неудобна, да и сами присяжные нередко пропускали часы приёма; но достаточно скоро всё обустроилось: нашли подходящее помещение, за каждым из юристов чётко закрепили обязанности. Пропустивший три дежурства подряд и при этом не обеспечивший себе замену исключался из консультантов, а это было серьёзное наказание, ударявшее по святая святых — репутации. Доступная юридическая поддержка стала хорошим подспорьем для иркутян: в 1903 году в консультацию присяжных поверенных обратились 1257 человек, и более тысячи из них (76 %) получили помощь совершенно бесплатно. С начала 1904 года поток посетителей ещё более возрос и только в январе составил 174 человека. Даже начавшаяся мобилизация не помешала работе присяжных: взамен выбывших членов были приняты новые. Более того, всех наделили правом вести дела обратившихся таким образом горожан. Конечно, работа консультации предполагала расходы — на письмоводителя, курьера, канцелярские товары, телефон, библиотеку и библиотекаря. Между тем, доход от платных клиентов за весь 1903 год едва превысил 260 рублей, а в январе 1904 составил лишь чуть более 30 рублей. Проблема решалась просто: поверенные вносили в кассу от 60 рублей в год каждый, а так же и их помощники отчисляли из собственных заработков по 24 рубля. Для Иркутска подобный выход из положения был обычной практикой, и поэтому рассчитывать на изъявления благодарности юристам не приходилось. А постепенно среди них утвердился и весьма критический взгляд на свою благотворительность. В середине января 1904 года, когда весь город жил ожиданием близкой войны, на общем собрании консультантов состоялся обстоятельный разговор о «дефектах в организации нашей работы». Бобкова — Генерал-губернаторская День 6 июня 1904 года в приюте арестантских детей начался как обычно, в 6 утра: надзирательницы обошли спальни, собирая на молитву. После дежурные начали уборку, остальные разбрелись кто куда, а Варенька Бобкова ещё немного вздремнула. Ей приснились две большие ладони, на которых чуть покачивался их приют. Было так уютно, но... позвали к чаю. А в это утро был он не только с сахаром, но и с молоком — обе приютские коровы уже неделю паслись на свежем лужке, образовавшемся неподалёку, на месте сгоревшего дома. Девочки тянули чай медленно, вкусно, а мальчишки опрокинули в себя кружки и высыпали во двор — побегать, пока не начались уроки. Надзирательницы норовили ухватить мальчишек за рукава, но те изворачивались, хохотали и неслись друг за другом — совсем как в кукольном театре Пьера Дудо. Он приехал в приют арестантских детей перед Рождеством, зашёл в рукодельную комнату — и сразу же по столу побежали куклы-дети под звуки невидимой дудочки! А потом и сам Пьер Дудо вышел из-за шторы. В руках у него был альбом и коробочка с углем. Бросив два-три взгляда на цыганёнка Беспаспортного, он стал быстро-быстро черкать; мальчишки повскакивали с мест — каждый требовал, чтобы нарисовали его! Потом смотрительница долго благодарила Дудо за бесплатное выступление, а вечером Варенька за него помолилась. Из 67 призреваемых в Иркутском приюте детей 18 вовсе не были арестантскими, а попали сюда «по особо уважительным причинам» — как сироты или дети очень бедных родителей. Варенька же Бобкова с недавних пор числилась стипендиаткой генерал-губернатора графа Кутайсова. В прошлом, 1903 году в приюте решили ставить спектакль, и мальчики начали обустраивать сцену, а девочки — шить костюмы. Было очень интересно, но распределение ролей перессорило всех, и несколько претенденток на главную героиню даже ходили жаловаться смотрительнице. Варе досталась роль очень маленькая, почти без слов, но отчего-то именно её и отметили граф и графиня Кутайсовы, приглашённые на спектакль. И потом они долго с Варей разговаривали в школьной библиотеке. Изначально всеми делами приюта ведало Дамское отделение губернского попечительского тюремного комитета. А состояло оно исключительно из жён чиновников и предпринимателей. Родоначальницей этого богоугодного дела стала супруга гражданского губернатора Шелашникова, а после её смерти дела приняли жена городского головы Евлампия Николаевна Демидова, жена полицмейстера Людмила Михайловна Заборовская, жена управляющего Сибирским торговым банком госпожа Меленовская, купеческие жены: Павла Александровна Катышевцева, Александра Федоровна Зазубрина, Мария Ильинична Несытова, Елизавета Ивановна Голдобина, Ольга Яковлевна Каминер, купеческая дочь Юлия Ивановна Базанова. Дамы проявили большую смётку и распорядительность, за полгода выстроив для арестантских детей специальное помещение. В.П. Катышевцева полностью приняла на себя его обустройство. Далее всё зависело от успеха благотворительных спектаклей, лотерей и пр. С началом каникул в арестантском приюте ещё работали мастерские, а всё свободное время мальчишки проводили у гигантских шагов, а девочки играли между деревьев. Варенька же Бобкова брала ключ от библиотеки и часами там просиживала — если только не объявлялся поход на Ушаковку, в купальни. Сопровождать детей полагалось двум надзирательницам, но обычно «охранниками» напрашивались и лазаретная няня, и кухарка. И всем было радостно в такие дни — вода смывала озабоченное выражение, строгий ангел улетал, оставался только ангел весёлый, и целый час или два все были лёгкими и счастливыми. Старшая надзирательница заплетала Вареньке косы и рассказывала, рассказывала, как жила она прежде далеко-далеко, и какие там были дома, деревья и школы. А после обязательно прибавляла: «А ведь один-то наш, арестантский, в Жердовском училище нынче. А другого в учительскую семинарию взяли. И Ваську Беспрозванного в позапрошлом году в кадетскую школу определили. Ну, а из тебя-то Варенька, и совсем уже образованная должна бы барышня получиться, не зря ведь сам генерал-губернатор и супруга его, графиня отметили». ...Год спустя, когда здания Александровской каторжной тюрьмы отдали под лазареты, иркутский арестантский приют основательно уплотнили. Новенькие держались особняком, и их так и называли все — «Александровские». А остальные были теперь «иркутские». И Варенька Бобкова слилась с ними, и никто, даже надзирательница и учительница уже не называли её «генерал-губернаторской». Ещё год спустя граф Кутайсов покинул Иркутск. Время было растерянное, и обошлось без привычных прощаний, но стипендия его имени в арестантском приюте осталась. Довольно скоро всем благотворительным капиталам предстоит сгореть в революционном огне, но Варенька Бобкова успеет к тому времени вырасти. В перипетиях железного века непросто разглядеть её маленькую судьбу, но Бобковы в Иркутске были весь этот век. И сейчас остаются. В несложном, на первый взгляд, хозяйстве иркутского приюта арестантских детей всё было чрезвычайно продумано. Неприкосновенный капитал в 15 тысяч рублей лежал в банке, давая ежегодный процент; и он был очень кстати, потому что казна выделяла приюту лишь 800 рублей в год. Этих средств только-только хватало на отопление и освещение, и поэтому каждое лето проводилась лотерея-аллегри, приносившая никак не менее пяти тысяч рублей. Надо прибавить к ним ещё две тысячи от благотворительного спектакля и 500 рублей, получаемых от генерал-губернатора. Плюс стипендии бывшего начальника края Александра Дмитриевича Горемыкина: после его отъезда из Иркутска сослуживцы провели подписку и собрали таким образом именной ученический капитал. Приютские девочки обшивали-обвязывали и мальчиков, и себя — уроки рукоделия были ежедневными. Для ремонта одежды использовалась чулочная машина. Огород, за которым ухаживали сообща, обеспечивал овощами, в садиках, разбитых самими детьми, поспевала ягода для варенья. Конфеты же были только в рождественских подарках от госпож Е.С. Патушинской и О.Л. Воллернер. Они же брали на себя все расходы по ёлке. Ежегодно в доходную часть закладывались известные суммы, которые должны были заработать приютские мастерские — столярная, переплётная и сапожная. Но самый большой доход приносил хор арестантских детей: настоятель Благовещенской церкви выплачивал ему от 900 рублей ежегодно, плюс 500 рублей дополнительного гонорара от купца С.И. Тельных. Так концы сводились с концами, и если, скажем, у приютских коров пропадало молоко, то и утренний чай мог быть просто с сахаром. Хлеб к чаю подавался чёрный, исключая большие праздники или дни, когда кто-то из благотворителей посылал арестантским детям сладкое. Обед обычно состоял из двух блюд, то есть, мясного супа и каши. В праздники на второе подавалось жаркое с картофелем или студень, а на Пасху и в Рождество на столе появлялись куличи, ветчина, сыр. Всего же на содержание приюта требовалось от тринадцати до четырнадцати тысяч рублей в год. В 1903 году приходная часть составила лишь 11 тысяч, а следующий, 1904 год стал ещё более трудным — началась война. Но все знали, что арестантские дети не пропадут, ведь опекало их Дамское отделение из пяти директрис во главе с супругой гражданского губернатора Анастасией Петровной Моллериус. Узел на память 17 июня 1904 года флаги, развевавшиеся на магазинах в центре города, говорили о праздничном событии; ему же посвящалась пространная публикация в «Иркутских губернских ведомостях». На этот день пришёлся 50-летний юбилей государственной службы генерала от инфантерии, иркутского военного генерал-губернатора, графа Павла Ипполитовича Кутайсова. Служи он в Петербурге, министр внутренних дел, епископ, обер-прокурор, сенаторы, губернаторы, приятели по Английскому клубу не слали бы, как теперь, телеграммы, а просто приехали бы к нему. В Иркутске же, где он только десятый месяц, юбилейное торжество, мягко говоря, неуместно. Но, с другой стороны, не манкировать же — общество этого не поймёт. За неделю до юбилея на закрытом совещании в иркутской городской думе решено было дать обед в честь начальника края. Граф решительно отказался, напомнив, что время теперь военное, не до праздников. Но рано утром 17 июня город всё-таки расцветился флагами, а с 11 часов начался торжественный съезд в генерал-губернаторский дом всевозможных делегатов и представителей. К 12 часам большой зал наполнился до отказа, и графиня распорядилась отвести для гостей ещё две комнаты. Ровно в час дня вышел Его Сиятельство, и началось зачитывание приветственных телеграмм из Варшавы, Москвы, Петербурга... В одной из них, кстати, сообщалось о пожалованном юбиляру ордене Александра Невского. Делегат от Иркутской городской думы торжественно сообщил, что Арсенальская улица переименовывается в Графо-Кутайсовскую. Далее принялись вручать приветственные адреса, наполненные пустыми высокопарными фразами, и только поздравление инокинь Знаменского монастыря подкупало сердечностью и искренностью интонации. Граф умело подвёл всех к эффектной, но отнюдь не пафосной концовке и ровно в два часа изволил удалиться. Публика расходилась не спеша, и какое-то время в коридорах оставался ещё воздух ожидания и нерастраченного торжества. Только вечером граф вполне ощутил себя дома и, наконец, дал сигнал для парадного обеда. Вполне семейного: приехали его дочь и зять. У графа было ещё три сына, и все от удачного брака с Ольгой Васильевной, фрейлиной Её Императорского Величества. Поселившись вместе с мужем в Иркутске, она приняла на себя попечение над благотворительным обществом «Утоли моя печали», Базановским воспитательным домом, детскими приютами имени императрицы Марии Фёдоровны, Обществом покровительства животным и Обществом защиты детей от жестокого обращения. Когда газеты сообщали, что «Её сиятельству от Его сиятельства поступило 100 рублей на нужды благотворительности», это означало, что и господам коммерсантам следовало повторить губернаторский жест. И они повторяли, вручая Ольге Васильевне крупные суммы. Их примеру следовали и гастролирующие труппы, не исключая и заграничных. В приюты Кутайсовы наезжали без всякого предупреждения, и граф мог отдать все наличные деньги на лакомства, а графиня — подарить заботливой настоятельнице золотую брошь. Ещё Павел Ипполитович любил ездить к гимназистам, разговаривать с ними о будущей студенческой жизни в Казани, Москве или Санкт-Петербурге. Такие встречи проходили в какой-нибудь комнате старших классов, малышей же граф, по обыкновению, распускал по домам. С началом войны над столицей Восточной Сибири нависла угроза превращения в прифронтовую перевалочную базу, с неизбежными эпидемиями, нехваткой продовольствия, топлива, взрывом преступности и недовольства. Правда, тёплым летом 1904 года в это не хотелось и верить: в Иркутске открывались новые гостиницы и рестораны, в Интендантском саду устраивались карнавалы, в самом центре города появился новый сад с символичным названием Порт-Артур, а магазины ломились от деликатесов и изысканнейших безделушек. Однако с началом осени в газетах замелькало, что вагоны с товаром останавливают, пропуская военные эшелоны, а потом и вовсе загоняют в тупик. Большинство грузов застревало в нескольких верстах от Иркутска, на станции Иннокентьевской. Вагоны откатывались в тупик, и взять их оттуда было очень не просто: железную дорогу перевели на военное положение, и заботы её стали исключительно фронтовыми. На Иннокентьевской забивались все проходы и подходы, образуя чрезвычайно запутанный узел. Петербург рекомендовал коммерсантам возить свои грузы по Московскому тракту, как-то забывая о том, что возить уже не на чем: лошадей мобилизовали и давно уж отправили на восток. В городской думе много шумели, но ничего серьёзного предпринять не смогли. И обращались к начальнику края графу Кутайсову — напрямую, в обход губернатора Моллериуса. В мирное время иркутский гражданский губернатор давал думе всевозможные рекомендации, на чём-то настаивал, о чём-то напоминал, и не было случая, чтобы гласные игнорировали его — теперь же, перед угрозой голода, всякий пиетет был растерян. В Иркутске одна за другой закрывались булочные, у дверей запертых магазинов по утрам пахло бунтом. Но особенно потрясала всех сцена на Мелочном базаре: несколько женщин, завидев возок с мукой, преградили путь и стащили мешки на землю. И подоспевшему городовому оказали такое жёсткое сопротивление, что ему удалось отстоять только пять мешков. «Иннокентьевский узел» пришлось долго распутывать, но, в конце концов, он всё-таки развязался. Однако параллельно с ним затягивался ещё один, куда более сложный — политический узел, впоследствии принудивший генерал-губернатора просить Петербург о переводе на военное положение. Но до этого ещё более года, а пока центр Иркутска сохраняет исключительно мирное выражение. И прохожие знают: флаги на магазинах развеваются потому, что у начальника края юбилей. И радуются. О приказчиках настоящих и мнимых 27 июня 1904 года Иркутскому обществу взаимного вспоможения приказчиков отошёл роскошный особняк Христины Яковлевны Колыгиной, с большим каменным флигелем, кладовыми, подвалами и обширным двором. Слухи о сделке ходили с начала прошлого клубного сезона, когда приказчики ещё только арендовали особняк. Обсуждалась и предполагавшаяся цена — 130 тысяч рублей (очень низкая для такой постройки) На собрании, где решался этот важный вопрос, пожелал присутствовать и корреспондент «Иркутских губернских ведомостей». «Помещение это положительно прекрасно! — признал он. — Когда мы взбирались по широкой каменной лестнице, казалось, вступаем в Палату Общин, где услышим много блестящих речей. Однако же обошлось без блеска»... Собрание пошло явно по семейному направлению: все говорили одновременно, и сквозь этот гул с трудом прорывался колокольчик председателя. Многие, бросив фразу на половине, вставали со своих мест и направлялись в буфет, где «хлопали по единой». И вообще: из 600 членов налицо оказалось лишь 65. Решили перенести собрание на другой день, но со второй попытки удалось собрать и того ещё меньше — чуть более 30 человек. Эти и в буфет не спешили, рты открывали лишь для зевка и вообще: по заключению корреспондента, «на всём чувствовалась печать странной усталости, непонятной тоски и тяжёлой апатии». Приказчики не скрывали, что записались в Общество из-за бесплатного доктора и знаменитых «субботок», на которых можно было «повеселиться и напиться до чёртиков». Обычно на «субботках» танцам предшествовал водевиль, поставленный собственными силами. Скажем, 6 ноября 1904 года ставилась «Женская чепуха», а неделю спустя предлагалась «Жена напрокат»; «Влюблённый майор» сменялся «Предложением» и «Зачем пойдёшь — то и найдёшь». На приказчичьей сцене можно было увидеть и гастролёров — главным образом, из артистов лёгкого жанра. Например, в нынешнем 1904 году выступал итальянец Эрнано-Бельяни, известный тем, что переодевался во время спектакля 65 раз. Попытки пробудить интерес к серьёзному репертуару долго не удавались. Решились на оперный концерт, но подвела пресловутая экономия: «уценённый» парикмахер-гримёр одел Ивана Сусанина продавцом омулей, а Фаусту так наклеил бороду, что она упала «посреди исполнения». Спектакль на немецком языке, назначенный на 9 мая 1904 года, просто не собрал публику. Ошибки учли и в следующий сезон уже «разбавляли» скрипачей номерами самодеятельности и танцами. Если и было что в клубе действительно стоящего, так это библиотека с прекрасным подбором книг и периодики, в том числе и детской. Так, на 1904 год было выписано 17 газет, 15 ежемесячных журналов, 5 еженедельных, 6 детских и 3 юмористических. Жаль, что этим богатством пользовалось лишь активное меньшинство. Между тем, человек сторонний, знакомый с городом по заголовкам газет, мог подумать, что именно приказчики стоят в авангарде общественного движения: в «Иркутских губернских ведомостях», к примеру, давалась хроника борьбы приказчиков за свои права. Лет за пять до того иркутская городская дума специальным постановлением ввела для приказчиков обязательные выходные. День принятия постановления Общество стало считать красным днём календаря, и теперь каждый год иркутяне и гости столицы Восточной Сибири находили двери лавок и магазинов закрытыми. Дискомфорт ощутили и завсегдатаи «французских кондитерских» Камова: каждое воскресенье с 20 мая и по 1 августа они сворачивались сразу после полудня, когда, собственно, и начинался основной поток посетителей. Кондитерские Ходкевича, с риском навлечь гнев политизированных изданий, оставляли открытой одну из кофеен на Большой, при этом посетителей обслуживал сам Леон Фердинандович Курчинский, иркутский представитель фирмы. Начиная с 1901 года, Общество приказчиков продвигало идею отказа от воскресной торговли как таковой, и этот проект поднимался вплоть до приёмной генерал-губернаторов. Начальники края решительно возражали, но приказчичье общество продолжало настаивать и, между прочим, старательно пропагандировало образцы отношения к служащим. К примеру, в июне 1904 года «Иркутские губернские ведомости» сообщили, что библиотекарь клуба приказчиков собирается в оплачиваемый месячный отпуск, а вместо себя оставляет помощницу, у которой так же есть право на оплачиваемый отдых. Сообщалось и о том, что обеим женщинам на всё время войны на 20% увеличено жалование. В 1904 году Совет приказчичьего общества заполучил необходимое число подписей (240) для созыва экстренного собрания по нормированию рабочего дня. Его назначили на 30 октября и объявление об этом составили в тонах самых решительных — тем забавнее было корреспонденту «Иркутских губернских ведомостей» лицезреть в большом зале всего лишь три десятка «зачинщиков». Со второй попытки удалось завлечь ещё 20 членов — и только. В ожидании собратьев по клубу принялись зачитывать прокламацию о восьмичасовом рабочем дне, «который только и может приобщить к умственной жизни общества». Автором значился некий одессит, называвший себя «приказчик-писатель». Таковых было много в Одессе, и их настойчивые ходатайства ещё в 1901 году побудили Департамент торговли Министерства финансов опросить 35 биржевых комитетов о их взгляде на продолжительность рабочего дня. Большинство пожелало закрываться на все праздники, а рабочий день сократить до десяти часов, с полутора или даже двухчасовым перерывом на обед. Приблизительно половина биржевых комитетов предлагали закрепить эти нормы законодательно, остальные же полагали, что можно отдать их на откуп органам местного самоуправления. Что же до зарубежных агентов торгового Департамента, то они сообщили, что прямых законов об ограничении продолжительности рабочего дня не существует, исключая США и Австралию. В то же время на практике ограничения встречаются. Вряд ли эти изыскания были известны основной массе иркутского Общества приказчиков. Созданное купечеством в 1883 году, оно и двадцать лет спустя оставалось ведомым, правда, если раньше целью было общее окультуривание, то теперь в разрыхлённую почву сыпались семена протеста. И делали это господа политссыльные. Сословные, профессиональные объединения весьма привлекали их — здесь набирали силу политические амбиции, опробовались протестные формы и рычаги. Не случайно на общем собрании членов Общества приказчиков в мае 1904 года корреспондент «Иркутских губернских ведомостей» насчитал... не более 10 приказчиков. «Остальные, отметил он, — лица разных профессий и сословий, не имеющих ничего общего с миром приказчиков. Да и этот десяток состоял исключительно из евреев». В 1904 и особенно в 1905 году Общество приказчиков доставило много хлопот иркутским жандармам. Но и они не единожды огорчили не в меру политизированное правление. А воспользовался этим противостоянием буфетчик-распорядитель приказчичьего клуба Тимофеев, говаривавший в узком кругу: «Да какая уж тут растрата, ежели всё одно не востребуют? А оне не востребуют, потому как им-с не до меня-с». Чугунная логика рельсового пути 4 июля 1904 года приказом главного контролёра Забайкальской железной дороги были приняты на службу иркутские мещанки Клавдия Епишина и Анна Попова. Тем же приказом определён к должности и потомственный дворянин Леонид Тихонович Крашенинников. Его вдохновил пример другого дворянина — Анатолия Ломаковского, уже четыре года состоявшего железнодорожным агентом; а также дворянина Ивана Глинского, ныне дорожного мастера. Тот и другой весьма отличились на этих рядовых должностях и теперь , по ходатайству министра путей сообщения , удостоены были высочайших наград — золотых медалей «За усердие». Прокладка в Сибири железной дороги не только сократила расстояния, но и сблизила представителей разных сословий; обыкновенные стрелочники, сцепщики, кондукторы, отличившиеся в необыкновенном деле, щеголяли серебряными и золотыми часами, изготовленными специально для них и украшенными государственными гербами. Встречаясь с ними, и крупный железнодорожный начальник доставал наградной портсигар с гербом из бриллиантов и со значением угощал дорогой папиросой. Впервые став свидетелем подобной сцены, дворянин Крашенинников чрезвычайно удивился, но прожив в Иркутске полгода, на многое посмотрел другими глазами. Конечно, его не привлекала карьера дорожного мастера (Леонид Тихонович был уже немолод), но он охотно бы стал ревизором на открывающейся Кругобайкальской дороге, и предстоящее «усиление штатов» позволяло рассчитывать на желанную перемену. Правда, визит к главному контролёру Забайкальской дороги оказался не столь успешным: потомственному дворянину и просто очень милому человеку предложили рядовую должность — такую же, как и двум мещаночкам с их посредственным образованием. Впрочем, тут Крашенинников ошибался: обе девушки в числе лучших окончили иркутскую, Хаминовскую гимназию и серьёзно готовились к Высшим женским курсам. В первую же неделю на новой службе Леонид Тихонович занялся изучением механизма «открывательского вознаграждения» — так здесь называли доплату за оштрафованных безбилетников. Она могла быть немалой, ведь только половина денег уходила в казну, а другая делилась на две части, и первая полагалась отличившемуся контролёру. Одна беда: честно заработанные «открывательские» выплачивать не спешили. Сбив ноги о пороги, Крашенинников узнал только, что положенное вознаграждение на руки выдаётся... года через два (если вовсе не затеряется). Леонид Тихонович записался на приём к новому начальнику службы сборов господину Стокольскому. В назначенный день пришёл пораньше и встретил в приёмной давнего знакомого — дворянина Ломаковского. Тот был очень удручён: — На железной дороге денежные начёты делают наперёд, ещё до разбирательства. После может выясниться, что «виновный» вовсе не виноват, но деньги уже взяты из жалования, а чтобы вернуть их, понадобится несколько месяцев и даже несколько лет. Холостые часто машут рукой, а семейным приходится по-настоящему туго, и многие агенты решаются на растрату казённых сумм! В приёмной Крашенинников с Ломаковским были одни — других желающих встретиться с новым начальником не оказалось. — Почти месяц в этой должности, а до сих пор не услышал никаких предложений, — посетовал Стокольский. — Большинство агентов поразительно равнодушны к службе, а линейные сторожа и ремонтные рабочие даже и к собственной жизни демонстрируют полное равнодушие! Незадолго до моего поступления один мостовой сторож, отец шестерых детей, улёгся спать на пути — и более не проснулся уже, естественно. Я запросил статистику и просто ужаснулся: только за три последних года на Забайкальской дороге зарегистрированы 44 случая увечий и смерти «отдыхающих» на путях. Но всего более поражает меня отсутствие у людей обыкновенного человеческого достоинства. Представьте, господа: прибывает на станцию Могзон иркутский поезд, и машиниста Чайковского тотчас требуют на манёвры. И он ведь послушно идёт, и работает почти сутки без перерыва, а потом засыпает прямо на ходу. Начальник депо решает, что Чайковский просто пьян и подводит его под ответственность. И Чайковский опять-таки не протестует, не жалуется! Я совершенно случайно узнал эту дикую историю, но мог ведь и не узнать! Из приёмной Стокольского Крашенинников и Ломаковский вышли помощниками начальника службы сборов и очень скоро разъехались по разным станциям: на Забайкальской дороге намечались большие перемены. Из Москвы откомандировывались новые, пятиосные паровозы системы Тендем-Компаунд, на смену шестиколёсным приходили восьми и двенадцатиколёсные. Всё больше заказывалось теплушек для переселенцев и новобранцев, товарных вагонов, вагонов-ледников. Пассажирских же, особенно первого класса, оставалось немного — железная дорога, ещё именуемая магистралью, всё более опрощалась, грубела, принимала образ «сибирской чугунки». Пароходы, недавно активно курсировавшие по Байкалу, теперь предлагались за полцены: с открытием осенью 1904 года Кругобайкальской дороги разом опустела узловая станция Байкал, пропускавшая многочисленные воинские эшелоны. Как язвительно предрекал корреспондент газеты «Восточное обозрение», «Песня станции Байкал будет спета, если Кругобайкалка не подгадит и не начнёт сыпаться». Но о грустном не хотелось и думать: в Общественном собрании намечался костюмированный вечер, и завсегдатаи уверяли, что главною в этот раз станет железнодорожная тема. Первыми на обозрение предстали «питейные» костюмы — «Винная монополия» и Шампанское». Изготовлены они были недурно, но с недостаточной выдумкой. Гораздо большее впечатление произвели «Сахарный кризис» и «Керосиновый кризис», но всё же публика не спешила отдавать им свои голоса — все ждали чего-то совершенно особенного. И вот две скромные барышни, Анечка Попова и Клава Епишина, торжественно вышли из гардеробной: на одной была юбка с видами мостов и тоннелей, другая изображала крушение поезда: руки у неё были связаны цепью, а на платье — рисунок тюремного замка, с надписью «Успокоение подрядчиков» и огромный бант, скрывающий «узел недоделок». Понадобились добрые полчаса, прежде чем публика сумела разглядеть все рисунки, прочесть все надписи. И хотя костюмы вышли перенасыщенными деталями, железнодорожники охотно отдали им свои голоса. А в конце вечера случилось забавное недоразумение: у Анны Поповой пропал пояс с надписью: «Усилия Кругобайкальского контроля охранить интересы казны». Возможно, сувенир взял на память потомственный дворянин Леонид Тихонович Крашенинников. А возможно, его прихватил хроникёр «Восточного обозрения», написавший в ближайшем номере: «Строители-кругобайкальцы скоро передадут дорогу в эксплуатацию и приступят к отчёту. Уж ничто не будет удерживать управление в Иркутске, и все шансы на то, чтобы перенести его в Петербург. Во-первых, с таким переводом в Иркутске освободятся 150-200 квартир и станет более чем на 500 едоков меньше. Во-вторых, казна сэкономит на сибирских доплатах управленцам. Беда только в том, что сами командированные стремятся во что бы то ни стало задержаться в Иркутске. Остаётся надеяться, что министр путей сообщения Хилков присоединит свой голос к требованиям контроля. Впрочем, мы видели в иркутском музее огромное чучело медведя, изготовленное по заказу служащих Кругобайкальской дороги в подарок князю Хилкову»... Июльские испытания В воскресенье 11 июля 1904 года в окрестностях Иркутска выпал град величиной с яйцо ласточки. Глядя в запотевшие окна, обыватели спрашивали себя: к чему бы ещё? Война-то идёт уже... Опасаясь вздорожания продуктов, иркутяне с нетерпением ждали Прокопьева дня, и с раннего утра поспешили на ярмарку. Из окрестных селений привезли много ягод, овощей; грибы только начинались ещё, и их тотчас разобрали, а вот рыбы нынче не было вовсе, как и привычных для Прокопьевском. ярмарки изделий кустарей. Потолкавшись, Подгорбунские так и вернулись ни с чем, если не считать туесок с земляникой — для Вари. За обедом Милослава Сильвестровна повздыхала ещё, что «и ждать было нечего: мужики с японцем воюют, а их семьям не до плетенья корзин». Однако, закончила бодро и даже решительно: «Война войной, а в гимназию поступать всё же надо» — и выразительно посмотрела на Варю. С самого начала июля Подгорбунские с нетерпением ждали каждый номер «Иркутских губернских ведомостей». Георгий Дементьевич сразу же принимался за военную хронику, многое читал вслух и, как правило, скороговоркой, но более всего комментировал, барабаня пальцами по столу. Милослава Сильвестровна напряжённо вслушивалась, но краем глаза высматривала долгожданное объявление «От начальницы 2 женской гимназии И.С. Хаминова». Его напечатали в номере от 10 июля, но взять в руки газету оказалось решительно невозможно — Георгий Дементьевич всё что-то перечитывал, отмечал любимым синим карандашом, а потом потребовал красный. Милослава Сильвестровна, улучив минутку, спросила, когда же начнётся приём прошений в гимназию. — Да как и всегда! — досадливо отмахнулся Георгий Дементьевич и опять погрузился в газету, всем видом показывая, что не может быть ничего важнее теперешней войны. О японцах Варя узнала год назад, когда Подгорбунские переехали в новую квартиру — окно её комнаты оказалось как раз напротив прачечной «Тамори». Милославу Сильвестровну такое соседство сначала обрадовало, однако вскоре выяснилось, что заказы в «Тамори» исполняют чуть не два месяца, да и то: скатерти отдадут, а простыни — нет: «Завтра-завтра. Как-нибудь». Потом-потом». А однажды странные эти японцы просто уехали безо всяких сборов, передав прачечную мало знакомым комиссионерам. И те ещё не успели снять вывеску «Тамори», как газеты сообщили: война. Георгий Дементьевич, прежде много хваливший иностранцев за предприимчивость, теперь рассуждал о шпионах, искусно скрывавшихся в прачечных и фотомастерских. Он всё глубже погружался в газеты. Зарубежные корреспонденты в один голос писали о превосходстве японцев, но лишь два петербургских издания перепечатывали их, общий же тон русской прессы был тот, что дела на востоке идут с переменным успехом. Лишь 13 июля в «Иркутских губернских ведомостях» сообщили о гибели соседа Подгорбунских — прапорщика Жданова. Его младшая дочка родилась в тот же год, что и Варя, и тоже собиралась в гимназию. Средняя переводилась в специальный, рукодельный класс. И Варе тоже страсть как хотелось в рукодельный, где учили делать цветы, шить дамские наряды и даже понимать бухгалтерию. Но Милослава Сильвестровна давно уж решила, что «рукодельная трёхлетка» — это слишком мало, надобно настраиваться на полный гимназический курс, за которым прямая дорога на Высшие женские курсы. Три последних года Варю так усердно готовили нанятые учителя, что Милослава Сильвестровна мечтала уже поместить её сразу же во второй класс. Но удастся ли? Мест в иркутских гимназиях катастрофически не хватает, каждая открывающаяся вакансия тотчас и заполняется. И пока не появится в иркутских газетах долгожданное объявление «От начальницы иркутской женской гимназии», никто и не знает, на что, собственно, можно нынче рассчитывать, и можно ли вообще. ...Муж, наконец, отложил газету, Подгорбунская тотчас подхватила её и отыскала нужное: «Бланки прошений можно приобрести у сторожа гимназии. При прошении прилагаются свидетельства о возрасте, звании и привитии оспы. Для евреек, кроме того, удостоверение полиции о праве проживания их родителей в Иркутске. Для поступления в 1 класс требуется возраст от 9 лет до 12. Приёма учениц в 4 и 5 классы не будет вследствие переполнения классов. Вакансий для поступления во 2 и 3 классы в настоящее время нет, и возможность открытия их выяснится только после поверочных экзаменов в августе». Потянулось томительное ожидание. Сразу стало заметно, что лето катится к закату: по утрам в открытые ещё окна втягивались туманы, ползущие с Ангары, слышалось постукивание отъезжающих экипажей. В лето 1904 года многие уезжали из Иркутска, оставляя насиженные квартиры, наспех продавая коров и лошадей. В самом центре пустовали уютные комнаты с тёплыми ватер-клозетами и отдельными погребами для жильцов. Впрочем, когда солнце поднималось достаточно высоко, на иркутских улицах начиналась привычная суета. В пассаже Второва зазывалы-мальчишки кричали, что «получены летние новости: соломенные шляпы, модные воротники, галстуки, перчатки, юбки, блузки, кофточки, капоты, триковое готовое платье, изящная обувь, модные отделки, бельё, заграничные ткани». Подгорбунские заходили, смотрели — и перед ними с готовностью разворачивали чудо-ткани: «Вуаль! Этамин! Плюмти! Они купили и наборы открыток в пользу раненых «Новые рисунки известных русских художников». Георгий Дементьевич мельком посмотрел, а потом усадил жену с дочерью подле себя: — Вот, послушайте: «Русско-японская война на населении Пекина отразилась очень мало, хорошо относятся к русским и в окрестностях столицы — впрочем, там многие просто не подозревают о войне. Тон китайской и даже японско-китайской прессы спокоен, английские и китайские газеты сообщили даже, что в Пекине готовится издание на китайском языке газеты, сочувствующей русским. Что касается чиновничества, то оно как всегда вежливо и молчаливо. Правительство продолжает утверждать, что сохранит нейтралитет, однако китайские войска, по-прежнему, обучаются японскими инструкторами и пополняют армию генерала Ма. Создаётся мнение, что китайское правительство выжидает результатов войны и предъявит свои требования России в удобное для себя время». — Выдержав паузу, Георгий Дементьевич нервно усмехнулся и добавил, — китайские разговоры о нейтралитете напоминают мне японские прачечные в Иркутске перед началом войны! Ещё газеты писали о том, что в Иркутск направят 1800 раненых, для которых понадобятся три новых госпиталя. Строить их было решительно некому, кроме арестантов Иркутской и Александровской тюрем. Иркутская городская дума проводила чрезвычайные заседания, но пока что безрезультатно. ...Занятия во второй, имени И.С.Хаминова иркутской гимназии начались вовремя — 17 августа. Накануне, 16, прошёл традиционный молебен. Подгорбунских на нём не было, но вообще-то Вареньку приняли в первый класс — как показавшую очень хорошие знания и... сироту. Георгий Деменьевич скончался от удара за неделю до зачисления. Милослава Сильвестровна нашла его в гостиной уткнувшимся в ворох газет. На восточном фронте без перемен 16 июля 1904 года в редакцию «Иркутских губернских ведомостей» вошёл антрепренёр городского театра господин Вольский — с таким победоносным видом, что нельзя было не догадаться: оперная труппа на предстоящий сезон сформирована! Ближайший номер газеты был готов, но держать такую новость было решительно невозможно, и редактор распорядился снять два текста из «Хроники» и лично проводил антрепренёра к наборщику, на ходу расспрашивая о солистах. Вольский, явно растягивая удовольствие, отвечал: — Из императорских театров ангажированы артистка Эйген (сопрано) и бас Горяинов. Будет и блистательная Давыдова из Тифлиса. Думаю в этот сезон возобновить «Манон Леско» и «Африканку», выпустить «Нерона», «Богему», «Тоску» и «Вертера». Однако в типографии, диктуя наборщику текст, антрепренёр припомнил, как тяжело шли переговоры с артистами — и добавил абзац: «В виду особенностей, в которые поставлен Иркутск на время войны, ведутся переговоры с дублёрами, хотя все опасения артистов совершенно не основательны: жизнь в городе нисколько не поколебалась к худшему, как об этом предполагают они в своих письмах». А и в самом деле: всё в Иркутске шло своим чередом: на циклодроме проводились гонки, Благотворительное общество готовило лотерею-аллегри, музыкальное общество хлопотало об усилении своих классов и рассчитывало пополнить кассу гулянием-карнавалом в Интендантском саду. При этом особенные надежды возлагались на князя Андронникова, любезно принявшего на себя обязанности распорядителя. И не напрасно: для детей приготовлена была «Бочка счастья», воздушные шары и весёлые аттракционы; танцы на открытой поляне перемежались «живыми картинами» и кинематографом; на летней сцене представлялась новая пьеса с совершенно роскошными декорациями, а любителей музыки ждали оркестры, хоры и просто граммофон в уютной беседке. На закате началась «Битва цветов», перешедшая в феерическое шествие в карнавальных костюмах, среди которых особенно выделялись «Монополька» и «Абажур». И всё это сопровождалось световыми эффектами, фейерверком, серпантином и конфетти! За три дня до карнавала на Мелочном базаре был большой привоз, и перекупщики не решились нарушить запрет — в результате сотня лука-репки продавалась по 30-45 копеек, сотня свеклы — по 30-90 копеек, моркови — по 30-35 копеек, ведро голубицы — по 70-90 копеек, ведро кислицы — по 50-70 копеек. Обыватели радовались: «Не припомним таких низких цен»! О войне напоминали только лубочные картинки в книжных лавках, консервы под названием «Для Дальнего Востока» да платки с портретом адмирала Макарова и сценами гибели «Варяга» и «Корейца», выпущенные разворотливыми мануфактурщиками. Приказчики уверяли, что на подходе ещё и «Военная карамель», а в ответ слышали: «Лучше бы масла сливочного завезли»! Масло, в самом деле, почему-то исчезло, зато свежего мяса было предостаточно, и цена на него опустилась даже ниже определённой думой, составив всего 13 копеек за фунт. При этом ожидалось новое понижение цен, ведь на подходе были дополнительные гурты скота. Расторопные рестораторы зазывали на мясные обеды и ужины по доступной цене. Гостиница «Россия» заново отделала номера и устроила летний сад с роскошными террасами и павильонами; в хорошую погоду прямо там и обедали и ужинали; до трёх ночи все дорожки оставались залитыми электричеством, а оркестр исполнял лучшие музыкальные пьесы. Иркутские шахматисты по вечерам обсуждали Устав будущего Общества, а жители предместий, сидя на скамейках перед домами, с изумлением пересказывали друг другу, что в городе появилась очень быстрая «лодка без вёсел» — так окрестили переносной двигатель, испытанный на Ангаре в середине июля. Он позволял лодке даже против течения и при сильном ветре идти со скоростью 10 вёрст в час. В саду «Порт-Артур» (на углу Большой и 4-й Солдатской) кроме обычного пива, кваса и «Нарзана» предлагался лечебный кумыс «от татарских степных кобылиц». Открывался «Порт-Артур» в 7 утра и работал без выходных. Прогуливаясь по дорожкам, обыватели толковали о разном, в том числе, кому нынче жить хорошо. Многие сходились на том, что сытнее других в Иркутске железнодорожникам. 24 июля 1904 года состоялось собрание уполномоченных Общества потребителей служащих Забайкальской железной дороги. Вопрос был, по сути, единственный и весьма приятный — распределение прибыли, полученной в прошедшем, 1903 году. Лишь семейство бывшего конторщика Журина в этот день не испытывало радостного волнения. А дело в том, что Африкан Африканович в прошедшем году задолжал железной дороге 20 рублей и ещё 9 копеек; как именно — и не разобраться теперь, потому как сам он от расстройства умер. А долг его перешёл на вдову, Анну Николаевну. Вволю поплакав, пошла она к начальнику службы движения («внимательный, говорят») за советом. Тот подумал немного и велел приходить на собрание Общества потребителей. Что ж, пошла, села в сторонке да стала слушать. Сначала там обсудили снабжение войск охраны железной дороги припасами из магазинов Общества потребителей. Потом был отчёт о дополнительных вознаграждениях мобилизованным. Анна Николаевна слушала отстранённо, но оказалось, что всё это к ней имело отношение — потому что дополнительные вознаграждения говорили о хорошей прибыли. Рядом с которой 20 рублей журинского долга показались совершенно ничтожными, и их постановлено было списать. «Э-эх, рано умер Африкан Африканович: за железной-то дорогой — как за каменною стеной, и войну пережить очень даже можно!» — всю дорогу до дома сокрушалась молодая вдова. Вечером же, за чаем, подумала, что, раз уж так хорошо повернулось, можно сходить с сыном и в Интендантский сад — завтра там большое гуляние. Но на другое утро заморосило, и мысли у Анны Николаевны пошли серенькие и меленькие: что придётся брать извозчика, да, пожалуй, в оба конца, а гуляние и без того не бесплатное — в общем, так и не узнал Вова Журин, что за «Бочка счастья» была приготовлена там, в Интендантском саду. Банный день С началом мобилизации в городе расквартировали большое число запасных, и банщики чрезвычайно возрадовались. Но тут и выяснилось, что привычных 8 копеек с военных не возьмёшь, а можно брать только по 2 копейки. Не сговариваясь, банщики начали саботаж, изыскивая всяческие предлоги для отказа запасным. Узнав об этом, губернатор вызвал полицмейстера; неизвестно, в каком тоне шёл разговор, только содержатели бань были собраны вместе и сражены одним коротким вопросом: «В этой войне вы на чьей стороне?» После чего понедельники, вторники и четверги объявили «военными днями» и составили график «помывки частей». В исключительных случаях солдатам разрешалось приходить и в «гражданские дни», но не более чем 800 и только с 8 до 11 утра, когда в банях ещё мало посетителей. Что же до «одиночек, отбившихся от команд», то тут содержатели бань попробовали взять реванш и добиться помывки их за 8 копеек. Полицмейстер подумал — и решил не отказывать банщикам в этом маленьком удовольствии. Одно из заседаний иркутской городской думы 1902 года окрестили банным — не потому что господа гласные подобно древним римлянам возлежали, рассуждая, а потому, что в тот раз очень уж подробно говорилось об открытии новых бань. Оно и понятно: строительство предполагалось на обширном участке в центре города (на пересечении Арсенальской и 5 Солдатской), в тесном соседстве с многочисленными деревянными строениями. Естественно, было опасение, не сгорит ли всё в одночасье от огромной банной печи. Однако затеявший этот проект предприниматель Иванов действовал чрезвычайно тонко, ловко маневрировал и при малейшем затруднении обращался к схемам и чертежам с таким количеством терминов, что господа гласные были сбиты с толку и постепенно растеряли заложенный критический заряд. — Дым у меня будет вынужден одолеть несколько ходов и сделать о-о-чень много поворотов, прежде чем попадёт в трубу, ведущую в искрогас. А оттуда ему ещё нужно будет попасть в следующую трубу, — сладко пел Иванов. — А как же искры? — Да разве же могут быть искры? — изумлялся докладчик и снова принимался блуждать по бумажному лабиринту. Следя за его указкой, гласные вертели головами, пока окончательно не запутались. И облегченно вздохнули, когда, подводя черту, Иванов назвав свою баню «образцом современных технических достижений». Разрешение на строительство было выдано, бани построены — и начались злоключения. Не может быть бань без воды, и поэтому к перекрёстку 5 Солдатской и Арсенальской потянули трубы, перекопав весь центр, озадачив и конных и пеших. Если кто-то этому и обрадовался, так только воры — из глубоких канав, прозванных «ивановскими», злоумышленники без труда попадали в подвалы магазинов и складов. Первой пострадала фирма «Кальмеера» — преступники забрали все золотые вещи, но не погнушались и компасами, биноклями, музыкальной шкатулкой. На обратном пути ещё и закусили, оставив стражам порядка «на память» огрызок огурца. Подобным манером был ограблен и магазин Бочкарёва на Большой. Даже у самых бань канавы были плохо засыпаны и обваливались, увлекая за собой экипажи, лошадей и прохожих. Управу и редакции местных газет завалили жалобами, но это отнюдь не смущало владельца бань Иванова: «Милостивый Государь! — обращался он к редактору «Иркутских губернских ведомостей». — На заметку, помещённую в вашей газете 14 августа 1904 года моим соседом и автором статьи о моей бане, могу сказать следующее: водопровод проведён, засыпаны злополучные канавы, которых мой сосед более не увидит. Хотя этот вопрос теперь и улажен, а всё же невольно думаешь, как можно корить меня порчей полотна улиц тогда как за это отвечает подрядчик Шлезингер? Во-вторых, как же можно вырыть канавы, не портя временно полотна улицы? Что же касается искр и сажи, которой якобы положительно засыпает всех соседей и их скот с головы до ног, то скажу следующее. Сажа иногда летит, но летит только тогда, когда чистится труба, что необходимо делать и делается каждую неделю. Что же касается искр, то они из трубы никогда не летят, за исключением тех случаев, когда выжигаю сажу соломой, и из трубы вылетает горящая солома, не могущая причинить положительно никакого вреда. О том, что не было как-то раз воды в искрогасе, объясню следующим: этим всецело заведует машинист, за что и поплатился штрафом. Что же касается остальных неисправностей в бане, то были они или нет, но в настоящее время не существуют. С.Иванов». На протяжении многих лет общественные (торговые) бани Иркутска не отличались ни удобством, ни чистотой. Особенно часто за неопрятное содержание штрафовали в Ремесленной слободе и Знаменском предместье. Впрочем, там дела обстояли получше, чем в уездах. «В таком селе как Черемхово, населённом большим количеством интеллигентных людей, отсутствует понятие гигиены, — возмущался корреспондент «Иркутских губернских ведомостей» в номере от 4 октября 1904 года. — Посреди села есть мост через помойную яму, так как расположенные выше торговые бани сливают сюда грязную воду. Посмотрите в эту канаву, и вы удивитесь, как до сих пор не завелась в Черемхове холера или другая какая эпидемическая болезнь». В июле 1904 года в банях Маркевича одной иркутской семье пришлось три раза переходить из номера в номер, потому что в каждом заканчивалась вода. Подобные истории случались и в банях Коровина. Но ещё больше клиенты боялись сгореть, ведь достаточно долго банные заведения оставались деревянными. 30 июля 1883 года загорелись бани Шмуклера на Ямской, и, как писали «Иркутские губернские ведомости», «публика выскакивала в костюмах Адама на светлые ещё улицы, прикрываясь вениками». Открытие в 1904 году «театра военных действий» на Дальнем Востоке заставило по-новому взглянуть и на устройство бань. Массовая эвакуация раненых и больных вызвала опасность эпидемий, и военное ведомство вспомнило любопытное предложение инженера Малеева. А это был настоящий банный комплекс, в котором рядом с помывочным отделением располагались прачечная с дезинфекционной камерой для белья и камера обработки верхней одежды газом Клайтона, моментально убивающим насекомых. На стирку и обработку белья и одежды должно было уходить полтора часа, то есть, столько, сколько отводилось для мытья и отдыха военнослужащих. Каждая их таких бань рассчитывалась на 150 человек, требовала довольно больших площадей и немалых средств на обустройство (стоимость дезинфекционного оборудования уходила за 50 тысяч рублей). Всего предполагалось три комплекса — в Челябинске, Омске и Иркутске. Ознакомившись с проектом Малеева, «Иркутские губернские ведомости» подготовили положительный отзыв. Но наборщик, читая, всё-таки покачал головой: «Нет, что-нибудь да сорвётся: либо кончатся деньги, либо же кончится война». С каждой новой баней являлась и новая надежда на комфортное и безопасное мытьё, и когда в газетах печатали очередное «Честь имею объявить об открытии номерных бань на Поплавской улице», в тот же вечер вереница любопытных отправлялась на Поплавскую. Число бань росло вместе с ростом населения: если в 1858 году в Иркутске насчитывалось только пять торговых бань, то в 1882-ом — уже 11. В 1890 году газеты писали о банных заведениях мещанки Белослюдцевой (на протоке Ангары), жены поселенца Фахлон-Мансур-Оглы (в Знаменском предместье), «народных банях» В.П.Сукачёва. Кстати, последние появились, чтобы восполнить острую нужду после опустошительного пожара 1879 года. Выполнив свою миссию, городской голова Сукачёв сдал бани в аренду, а затем и продал их Н.П. Курбатову и Г.И. Русанову. Оба были достаточно крупными домовладельцами и хорошо знали, как извлечь из недвижимости побольше дохода; был и опыт ведения строительного подряда и даже опыт заводчиков. Всё вместе взятое и способствовало тому, что «народные бани» начали расстраиваться, обустраиваться и постепенно превратились в заведение с тремя уровнями сервиса — общедоступным, номерным и дворянским. Публика следила за переменами и не стеснялась высказываться, если что-то не устраивало её. Журналистов газеты «Восточное обозрение», например, возмущали цены на билеты в дворянские номера, а «Иркутские губернские ведомости» критиковали погоню за красивой отделкой в ущерб безопасности: «На днях в так называемых дворянских нумерах курбатовских бань некто П. И-й, поскользнувшись, упал и, ударившись виском о скамейку, потерял сознание, — писала газета 22 августа 1904 года. — Отмечая этот случай, не можем не сказать несколько слов по поводу дворянских нумеров. Пол в них выложен кафелем до того скользким, что ходить по нему представляется уже своего рода искусством. Думается, что пол следовало бы выложить рубчатым кафелем или, по крайней мере, покрыть дорожками. Кстати уж сказать, не следует пускать публику в номера с битыми оконными стёклами (как в №12), особенно при плате в 1 рубль. Надо признать, что господин Курбатов на критику не обижался, а просто брал её на заметку, беспрерывно улучшая и обустраивая своё детище. Последняя перестройка бань была, кажется, в 1915 году, и если бы не революция, они всё менялись и менялись бы — в полном соответствии с требованиями времени. Не случайно ведь слыли лучшими в городе: инженеры отмечали надёжную систему очистки отходов, пожарные пользовались курбатовским водопроводом, никогда не выходившим из строя; именитые гости и обыватели восхищались изразцовым орнаментом, бассейном, фонтаном, удобными скамьями для отдыха, дорогими люстрами. Дети очень любили «банные дни» из-за железных рыцарей с фонарями, встречавших их у входа. Не удивительно, что за все годы советской власти иркутяне так и не стали называть эти бани присвоенным им порядковым номером. Нам сверху видно всё 29 июля 1904 года «Иркутские губернские ведомости» подтвердили слух, гулявший в торговых рядах: в сёлах Адри— ановка, Мысовск и других видели «воздушный шар» с вращающимися прожекторами. Очевидцы в панике разбежались, думая об одном: «Японцы прилетели!» Досужие умы бредят высадкой из воздушных сфер чуть ли не целого войска марсиан-японцев, — иронизировал губернский хроникёр и продолжал. — Живя в глуши и не имея других развлечений кроме поклонения Бахусу, можно очень легко напиться до аэростата. Если прилетали, в самом деле, японцы, то почему они до сих пор не проявили своих враждебных намерений — или путешествуют для собственного удовольствия? Может, мы имеем дело с атмосферным или космическим явлением»? — Отчего б не с космическим? — рассмеялся, прочтя, редактор Виноградов. — Слава Богу, бояться нам нечего — по— христиански живём. Одного табака для фронта собрали на добрую тысячу рублей! Ранним июльским утром Лавр Петров, дворник магазина Метелёва и Щелкунова на Большой обнаружил на стене деревянный ящик, шириною в аршин, с металлической крышкой. На серой краске, по всему видно, свежей, выделялся большой белый лист с крупными печатными буквами: «Не пожалейте, господа, опустить в этот ящик папирос или табаку для воинов на Дальнем Востоке»! Дворник с любопытством осмотрел, как устроен ящик, даже и потрогал со всех сторон, потом достал кисет, отсыпал из него половину в полотняный мешочек, тщательно завязал. Табак мягко шлёпнулся на дно. «Никак, я первым номером вышел!» — довольно подумал Лавр, беря в руки метлу. Вскоре подле ящика остановилась служанка с собакой. Постояла, почитала, подумала, а на обратом пути опустила пятьдесят копеек. Приказчик из соседнего магазина принёс с десяток коробков спичек и курительную трубку, долговязый гимназист — записную книжку и карандаш, пожилая торговка — четверть фунта кирпичного чая и столько же сахара, а дворник сада «Порт Артур» — пять листов курительной бумаги. Солидный, с одышкою, господин с неожиданной ловкостью опустил в ящик 5 рублей, а затем и серебряный, новый портсигар. Иностранец из гостиницы «Гранд-Отель», долго наблюдавший за всем, догадался, наконец, «что есть всё это», и тоже бросил цент. Дольше всех простояла у ящика молодая женщина со светлым завитком, выбивавшимся из-под косынки. Наконец, осторожно приподняла крышку и опустила кусок душистого «Ландыша». Это мыло было последним, что связывало Анну Климову, жену нижнего чина Игнатия Климова, с довоенной жизнью. Так случилось, что мужа мобилизовали, когда он вместе с ней и сыном Володей был на пути в Иркутск. Всё произошло так стремительно, что Игнатий только-только успел сказать: «Всё-таки поезжайте в Иркутск — там какая-никакая родня, помогут, я думаю». Ни на кого не рассчитывая, Анна прямо с вокзала отыскала редакцию «Губернских ведомостей» и надиктовала объявление: «Жена нижнего чина просит места экономки, кастелянши или портнихи». Кстати, наборщик подсказал ей, как добраться в Знаменское предместье, к родственникам. Правда, прежде чем брать извозчика, Анна два квартала прошла вместе с сыном по Большой, разглядывая большие каменные здания. Всего более поразили её окна магазина Кальмеера: вместо обычных товаров в них были выставлены портреты артистов оперы, «имеющих прибыть в Иркутск в 20-х числах августа». Глядя на эти окна, и Анна успокоилась и подумала, что, может, всё обойдётся ещё? Тётка мужа встретила их довольно приветливо, но с порога направила в управу, да ещё наказала «напомнить там, что семействам мобилизованных нижних чинов (из беднейших) дрова положено отпускать бесплатно — есть на то распоряжение Лесного департамента». В городской управе, прямо на лестнице, тоже установлен был ящик, и ещё более объёмный, чем у магазина Метелёва и Щелкунова, но с такою же надписью: «Не пожалейте, господа, для фронтовиков!» Неподалёку от ящика член управы Собакарёв увлечённо рассказывал, что и он собирает на табак по подписке, и уже оправил около 1000 фунтов. А горный кружок непосредственной помощи фронтовикам получил уже и письмо с благодарностью от капитана Серебренникова из 7 роты Иркутского полка. Послушав Собокарёва, Анна решилась тут же, на лестнице, обратиться к нему. Но узнав, что она приезжая, член управы только руками развёл: «По каким же спискам мы сможем Вас провести? Нет, пожалуйте-ка сначала к иркутскому полицмейстеру, для дознания, так сказать». Господин полицмейстер посмотрел на Анну чрезвычайно внимательным взглядом, а Володе даже и улыбнулся: «Сын? Очень, очень хорошо. Есть и метрики? Очень, очень плохо, что нет. Запрос мы, конечно, сделаем, только это ведь пока обернётся... А Вы вот что: пройдите сейчас на Котельниковскую — там, на пересечении с Арсенальской располагается Дамский комитет Красного Креста. Вам непременно помогут! В Дамском комитете Анну внимательно выслушали, посочувствовали, но опять-таки развели руками: «По какому списку Вас провести, если Вы ни в одном не значитесь?» — и направили дальше, в Иркутский уездный комитет по призрению солдатских семей. А в помощь дали сопроводительное письмо. Идти в комитет уже и не хотелось, но Анна представила, как они с Володей вернутся в Знаменское, как тётка будет вздыхать, что «налог на собак, и тот уже третий год заплатить не можем» — и попросила записать адрес. В уездном комитете в этот день шло отчётное собрание. Небольшой зал был полон, и двери, для воздуха, не закрыли, так что Анна смогла по рядам передать прошение. Потом нашла в коридоре стул и стала слушать. Говорили о подписных листах, благотворительных спектаклях и концертах, наполняющих кассу. Но по всему выходило, что основная часть денег поступает всё-таки от ежемесячных членских взносов самих комитетчиков. И куда их потратить, они тоже решали сами. Например, в Култуке 90 рублей были отданы на семена, а в Александровске выделили денежные пособия семи беднейшим семействам мобилизованных нижних чинов. В Усолье таких, нуждающихся семей насчитали 15, и каждая получила по небольшой сумме. А вот в Усть-Балее помогали, главным образом, хлебом, потому что именно в нём и была там нужда. Отчёт также показывал, что немалая сумма денег (более 1600 рублей) остаётся неизрасходованной, и поэтому предложили сегодня же рассмотреть прошения всех солдатских жён. Первым шло ходатайство о пособии для солдатки Казаковой. Мнения разделились: часть членов комитета считала, что, коль есть свободные деньги, надо их раздать всем просящим. Но другая часть возражала, особенно против помощи Казаковой, давно уже получающей пособие от казны. Постановили отказать Казаковой. А вот крестьянке Усовой со второго участка решили дать столько, сколько сочтёт достаточным местный крестьянский начальник. Когда разбирали прошение солдатки Шлюндиковой, зал опять распался на два лагеря, потому что Шлюндиковой уже назначалось пособие — от полиции. Однако выплаты задерживались, а солдатке подходил срок родить. После жарких схваток «за» и «против» большинством голосов приняли решение выделить-таки Шлюцдиковой 20 рублей. Прошение Анны Климовой рассматривали последним. Сначала зачитали сопроводительное письмо Дамского комитета. Потом подробнейшим образом расспросили Анну, как ходила она в городскую управу, к полицмейстеру, а потом в Дамский комитет Общества Красного Креста. После чего объявили закрытое обсуждение и Анну с сыном попросили отойти в другой конец коридора. Они и сидели там, глядя в окно и уже ни о чём не думая. Решением Иркутского уездного комитета по призрению солдатских семей Анне Климовой выделили ежемесячное пособие в 6 рублей. Кроме того, члену комитета Фёдорову поручили выхлопотать для солдатского сына Владимира Климова метрики и устроить его в одно из учебных заведений Иркутска. Тётка поворчала, конечно, что весной здания начальных училищ отдали под войска, однако же, было видно, что довольна. На радостях Анна рассказала ей, что завтра утром пойдёт к священнику Копылову за благословением — она хочет ухаживать за ранеными в епархиальном лазарете. «Потому что так к мужу поближе будет». Особенности совместного существования 27 июля 1904 года двое молодых людей, фланирующих по Большой, заметили китайцев и, быстро переглянувшись, побежали следом. Иностранцы бросились врассыпную, но один оказался менее расторопным и был схвачен за косу. И несдобровать бы ему, если б на шум не подоспел полицейский. В участке разобрались, и оказалось, что молодые люди приняли китайцев за японцев. Тех и других они прежде видели исключительно «на картинках», в Иркутск же прибыли два дня назад, в командировку. Собственно иркутяне, конечно, могли отличить китайца от японца, поэтому с началом войны гости из Поднебесной не уехали из города, оставался даже и больной эпилепсией, всё лето бродящий по центру города. Однако, ни обыватели, ни тем более власти не питали иллюзий в отношении «жёлтых братьев». В июле неподалёку от станции Могзон бдительные жители обнаружили динамитные скважины, и старший геолог иркутского Горного управления инженер Тульчинский срочно выехал для обследования. Оказалось, правда, что обе скважины остались ещё от прокладки тоннелей при строительстве железной дороги, и «Иркутские губернские ведомости» поспешили успокоить читателей, поместив заметку «Напрасные страхи». К концу июля с фронта начали возвращаться первые волонтёры. В лазарете Иркутского Дамского комитета Красного Креста разместили счётного чиновника иркутской Контрольной палаты господина Гемпеля. Образованный и чрезвычайно деликатный молодой человек, он считался завидной партией, и на другой же день в доме Фрумина на Амурской, где разместился лазарет, собралось несколько женских делегаций. У входа в палату перешёптывались, что Гемпель награждён Георгиевским крестом, что в бою под Вафангоу его ранили в ногу, но, к счастью, её удалось сохранить. А вот один глаз Гемпеля совершенно не видит — вследствие нервного потрясения. Несколько барышень вызвались читать раненому газеты, и на другой же день Гемпель слушал, как в Кимильтейском, Куйтунском, Барлукском, Уянском и Зиминском приходах крестьяне приготовили для отправки на фронт 800 пудов пшеничных сухарей, а также ящик почтовой бумаги с конвертами, 8 пудов холста и полотенец. А жёны нижних чинов, призванных из Нижнеилимской волости, пожертвовали в пользу раненых по 5 копеек с каждого рубля выданного им денежного пособия. Ещё газеты сообщали, что в Иркутской губернии на время войны введена конская повинность, и на специальных участках в Иркутске, Култуке, Верхоленске, Манзурке, Балаганске и Заларях ведётся приём лошадей. А в Иркутске учреждён распорядительный комитет по определению очередности доставки по железным дорогам грузов в пределах Иркутского военного генерал-губернаторства. Из газет было видно и то, что прибытие раненых застигает иркутские власти врасплох. 3 августа городская управа почти кричала с первой полосы «Губернских ведомостей»: «Экстренно-срочно! В виду начавшегося уже прибытия в Иркутск с театра военных действий больных и раненых, все лица, получившие повестки о числе назначенных у них к размещению воинских чинов, обязываются немедленно, не выжидая данного им десятидневного срока, изготовить у себя в доме или нанять помещения для больных и раненых и немедленно сообщить об этом в городскую управу». Редакция «Иркутских губернских ведомостей» не удержалась, прокомментировала: «Городское управление с июня не вырешило вопрос о размещении раненых». Действительно, дума несколько раз собиралась, обсуждала, но. то управа не представляла необходимых сведений, то гласные увлекались абстрактными рассуждениями и обменом упреками — а время шло. Наблюдая за пустыми дискуссиями, журналисты без труда прогнозировали: в конце концов, власти просто сбросят раненых на обывателя. Нет, успокаивал городской эвакуационный комитет, дома стоимостью ниже 5 тысяч рублей вообще не будут использоваться для постоя. Домовладельцам же с недвижимостью от 12 тысяч рублей предложат для размещения только по 2 человека, а собственникам недвижимости стоимостью свыше 20 тысяч рублей — по 3. Эти расчеты исходили из того, что большая часть раненых разместится в специальных лазаретах, но их устройство утонуло в пустых разговорах гласных, так что встревоженные обыватели потянулись в городской эвакуационный комитет с заявлениями о замене содержания раненых денежным взносом (50 рублей в год за 1 человека). К началу августа 1904 года таких заявлений поступило уже 446 — в большинстве своём от жителей Нагорной части Иркутска, куда водовозы часто не доезжали, а с конца июля 1904-го ещё и взвинтили плату за доставку. Ближайший же к Нагорной части Саломатовский колодец незадолго перед тем передали пожарным, и теперь приходилось ездить за водой на другой конец города. В поисках дополнительных мест для раненых власти уплотняли Сибиряковскую богадельню, Епархиальный лазарет. Городские больницы и без того уже были переполнены, что же до лазарета Дамского комитета Красного креста, то он давно уже принимал раненых. Иркутские дамы во главе с Анастасией Петровной Моллериус ещё в феврале арендовали помещение в центре города и не просто отремонтировали его, но максимально приспособили для нужд лазарета. В результате получилось 12 просторных и светлых палат на 40 кроватей, две кухни, столовая, ванные комнаты, прачечная с асфальтированным полом, дезинфекционная. При наборе докторов и сестёр милосердия Дамский комитет отдавал предпочтение волонтёрам. К началу военных действий местное отделение Красного Креста располагало обширнейшим складом, где одного белья, платья и продуктов насчитывалось на миллион рублей. При складе устроен был и пожарный сарай со специальной машиной для тушения, и ёмкостями с водой. 7 августа иркутяне провожали на фронт Енисейский запасный батальон, и каждый офицер получил в подарок от Красного Креста полушубок, тёплые носки, дополнительную смену белья и мясные консервы; каждый солдат — кисеты с чаем, сахаром, табаком, письменными принадлежностями и деньгами. Так же тщательно был экипирован и направляющийся в Харбин Иркутский запасный батальон. В августе на иркутских улицах и базарах начали появляться и первые выздоравливающие. Особенное внимание привлекали моряки — их немедленно окружали и забрасывали вопросами. Вот как об этом рассказал фельетонист «Иркутских губернских ведомостей»: «Польщённый вниманием матрос разговорился: «Вот вы тут спрашиваете, как воюют, значит... А разве можно рассказать? Примером, грот-мачта, рангоут — как вы это понимаете? Вокруг благоговейно молчали. Матрос оглядел всех, сердито сплюнул и ушёл. А недолгое время спустя торговец Силантий уже рассказывал покупателю, что мы, дескать, эскадрой воюем, а японцы — рандовутом. И скоро войне конец, потому как наши в Порт-Артуре миноноску наладили. Покупатель глядит на Силантия недоверчиво-удивлённо, и Силантий обижается: — Точно знаем, нам про энто матрос битый час балясил. А ты, милчеловек, хошь и надел образованную голову, да только супротив матроса не устоишь!» Для временного, но приятного проживания Ранним утром 13 августа 1904 года на иркутском вокзале собралась вся верхушка местной власти, гражданской и военной: встречали командующего войсками Сибирского военного округа генерал-лейтенанта Сухотина. В «Гранд-Отеле» для него были забронированы апартаменты, но, как сконфуженно сообщалось в следующем номере «Иркутских губернских ведомостей», «командующий войсками остановился в вагоне и оттуда наносит визиты». Всего более огорчился хозяин «Гранд-Отеля»: он привык, что такие персоны ездят со свитой, занимают в гостинице целое крыло и немалую часть времени проводят в ресторане. Специально под командующего были заказаны из Москвы балыки, вестфальская ветчина, сёмга, испанский лук и, что самое важное, живые раки, с величайшею осторожностью привезённые специальным уполномоченным в скором поезде. В Иркутске раков встречал шеф-повар и всю дорогу до отеля вдохновенно рассказывал о задуманном им «обеде генеральского толка». «Пусть и делает, как задумал, — решил ресторатор, — без обедов Сухотину всё равно ведь не обойтись, а что предложат ему, как не самый представительный в городе ресторан? Статус, он обязывает; вот, к примеру, проезжал недавно через Иркутск граф Бобринский, камергер двора Его Императорского Величества, и с вокзала повезли его прямо в «Гранд-Отель», и обедал он в компании с князем Трубецким, предводителем Ялтинского дворянства Поповым, а также с супругой начальника дипломатической канцелярии наместника Его Величества на Дальнем Востоке и супругой одного из членов Государственного Совета. Слава Богу, высоких особ в последние полгода хватает; с открытием театра военных действий кого только не доводится видеть! Запросы у всех этих господ, конечно же, очень большие, но ведь и деньги они платят немалые!» Вообще, война с Японией дала толчок гостиничному бизнесу: резко возросло число проезжающих, потребовались гостиницы европейского уровня, с невидимой прислугой, большими удобствами в номерах и утончённой кухней. В « Гранд-Отеле» подают безупречный суп-пюре «Дефинансер», в «Метрополе» — «Суп по-польски», а «Россия» славится «Гвардейским борщом». Обед из двух блюд обходился приблизительно одинаково, в 75 копеек, из трёх блюд — в 1 рубль, а с добавлением и четвёртого блюда, скажем, пудинга «Кабинет» и малинного мороженого — в 1 рубль 50 копеек. «Гранд-Отель» усердно пополняет витрину изящных безделушек, за каждую из которых клиенты выкладывают по 450-500 рублей. Ни в «Марселе», ни даже в «Метрополе» таких покупателей просто не может быть, ведь каждая из иркутских гостиниц ориентирована на свою группу проезжающих. «Метрополь» хорош для тех, кто ходит в музей и театр; «Гранд-Отель удобен соседством с банками, «Россия» интересна тем, кто любит слушать живую музыку в прохладе сада и в такие часы, когда город спит. Есть и гостиницы средней руки, и заурядные «номера» с соответствующими ценниками, доступными для мало обеспеченной публики. Притом, что гостиницы развиваются, рынок недвижимости в Иркутске переживает застой. Отток населения с начала войны привёл к тому, что квартиры опустели и цены на них упали. Домовладельцы, ещё недавно капризно выбиравшие квартирантов и заводившие непомерные строгости (собак и другую живность не держать, знакомых вечером не приводить!) обнаруживают удивительную терпимость. Даже госпожа Копылова, сдающая квартиры в своём доме на Троицкой, недавно лишь слегка пожурила штабс-капитана Андреева, устроившего ночной скандал и перебудившего всех жильцов. Копылова надеялась отвести пустовавшие комнаты раненым, однако поход в городскую управу очень огорчил бывалую домовладелицу: к содержанию военных предъявлялись такие высокие требования, что для их соблюдения пришлось бы разобрать перегородки и заново всё отремонтировать. Посчитав и подумав, Анастасия Андреевна решила крепче держаться за нынешних постояльцев. С 9 августа опустело и иркутское юнкерское училище, но, вопреки прогнозам, только двое из 46 выпустившихся офицеров отправились на Дальний Восток, остальных разослали по другим направлениям. Отправка чуть было не сорвалась из-за нехватки амуниции. Подряд на её заготовку достался предпринимателю Шнейдеру, но по какой-то причине оказался до конца не исполнен, и «Иркутские губернские ведомости» объявили об «амуничном кризисе». Совсем нешуточный кризис назревал, между тем, в начальных училищах: весной помещения их отдали под казармы, и теперь надо было как-то выходить из положения. Мнения гласных городской думы разделились: часть их считала, что управа превысила полномочия, отдав военным школы, существующие на частные, благотворительные капиталы. Другая часть гласных полагала, что училища нужно оставить под военными. На заседании думы 10 августа голоса разделились поровну, а следующее заседание было назначено на 12 августа. В образовавшийся люфт гласный Попов напечатал в своей газете «Восточное обозрение» острый фельетон о гасителях просвещения — и пристыженная дума постановила освободить школьные здания от казарм и начать учебные занятия в срок. Неожиданно квартирный вопрос обострился и на железной дороге, построившей для своих служащих немало добротных семейных домов. А дело в том, что усилившееся движение поездов и скорая сдача в эксплуатацию Кругобайкальской дороги потребовали дополнительных стрелочников, сцепщиков, кондукторов, ревизоров. Удобнее было бы их нанять на местах, не озабочиваясь надбавкой к жалованию и бесплатным казённым жильём, но с мобилизацией мужское население губернии сильно поредело. Одним словом, пришлось обращаться за помощью к другим железным дорогам. Иркутску не отказали, но «ушлые пришлые» без стеснения занимали квартиры, из которых на их глазах выселяли семьи местных железнодорожных служащих. Пострадавшие возмущались, но не так, как следовало бы: доходили только до ближайшей инстанции, где и получали обезоруживающий российского человека ответ: «Не положено». А 20 августа 1904 года одним росчерком пера разрешился «квартирный вопрос» в иркутском тюремном замке: по Высочайшему манифесту сразу 200 заключённых были досрочно выпущены на свободу — царские милости после рождения наследника не знали границ. Иркутяне, услышав о «пополнении», вздрогнули, а полицмейстер объявил готовность номер один. Казённая монополия Прекрасным летним днём 1904 года перворазрядные иркутские гостиницы «Россия» и «Метрополь», только что отремонтированные и заново обставленные, были объявлены трактирными заведениями второго разряда — к ужасу хозяев и полному изумлению городских властей. Понижение статуса произошло под флагом введения казённой винной монополии. И под завесой военного времени, усилившего губернскую власть (а именно чиновники из губернского управления и совершили гостиничный переворот). Всем интересующимся объявили, что в Иркутске нет достойных отелей, а есть лишь самые обыкновенные; стало быть, и спиртные напитки в них должно подаваться по обыкновенной (то есть по казённой) цене. Конечно, Положение о трактирном промысле никто не отменял, но в условиях войны местная власть полномочна определять разряды гостиниц по своему усмотрению. Налоги с второразрядных гостиниц много меньше сумм, которыми пополняют городскую казну настоящие отели, поэтому иркутское самоуправление стало искать пути для возвращения «Метрополя» и «России» в первый разряд. Письмо гласных думы губернатору вышло пространным, но весьма и весьма убедительным. Однако губернское управление не постеснялось обвинить общественное управление в «искусственном создании условий к обогащению городской кассы за счёт жителей Иркутска». То, что постояльцы (иногородние, без исключения, люди) были названы жителями Иркутска, конечно, многое объясняло, открывало истинную причину «июльского переворота» и прямо указывало на чиновных завсегдатаев роскошных гостиничных буфетов. «Оставление лучших гостиниц во 2 разряде вполне соответствует действительным потребностям посещающей их публики», — утверждалось в ответе губернского управления, и вот с этим, действительно, трудно было не согласиться. Между тем, губернская типография в спешном порядке допечатывала сборники обязательных постановлений о винной монополии. А частные торговцы спиртным сдавали нераспроданные запасы в казну. День введения монополии, 1 июля 1904 года, стал для них самым чёрным днём. Зато акцизные чиновники отмечали его как большой праздник: в их служебных кабинетах и у дверей винных лавок служились молебны, произносились вдохновенные речи, как эта: — Наконец-то прекратится распитие у прилавка, закроются все бесчисленные кабачки, с угощеньем «на скорую руку» и развязными подносильщицами! Наконец-то исчезнет самопал, прекратится торговля под залог краденого, а в деревнях — под залог семян, одежды, инвентаря. Прекратится обмен спиртного на пушнину, ведь она у доверчивых дикарей измеряется литрами, «курс» которых зависит от степени опьянения. Помните, господа: купца Сотникова даже выслали из Туруханска за такие «дела», а он после этого благополучно обосновался у нас в Балаганском уезде? Ну, теперь-то всех этих сотниковых мы хорошо прищемим! И действительно: месяц спустя верхоленский корреспондент «Иркутских губернских ведомостей» отмечал: «Крестьяне не могут нахвалиться вином, покупаемым в казённой лавке: пробки не вылетают, в бутылках не плавают мухи, тараканы, щепки, обрывки бумаги и пр. Раньше вино было цвета дождевой воды, а на другой день от него нестерпимо болело всё тело. После казённого вина боли нет, и оно очень крепкое, так что пить его много, как прежде, уже не приходится. Ещё крестьяне довольны тем, что по чистоте казённая лавка напоминает аптеку, и при входе здесь просят вытирать ноги и снимать шапку. Хотя прежде снимавший в винной лавке шапку подвергался ядовитым насмешкам». Интерьеры государственных винных лавок, в самом деле, поражали благообразием, но кабацкие сцены остались, только переместились на прилегающие улицы. Здесь так же распивались косушки, четушки и сотки, вспыхивала всё та же орлянка, а привычное сквернословие скоро перерастало в драку. И «рабыни веселья», непременное приложение питейных заведений, остались. Рядом с этим, древним промыслом объявился и новый: многочисленные пробочники развернули лотки с откупоривателями, и товар этот шёл нарасхват, особенно в базарные дни, когда каждая телега, остановившаяся у лавки, превращалась в импровизированный кабачок, и они тянулись во всю длину улицы. Многие «угощались» до того, что сваливались с телег и лежали, пока не появлялся полицейский наряд. На Блиновской, у пересечения её с Графо-Кутайсовской, уличная канава постепенно превратилась в небольшое озеро, и молодая семья утят облюбовала его для своих купаний. Тут же вынужденные ванны принимали и пьяные босяки. Такие «жанровые сценки» высоко оценили проезжающие через Иркутск любители фотографии. А корреспондент губернской газеты сделал неутешительный вывод: «Никакого противодействия развитию уличного пьянства мы, к сожалению, не видим, — с введением винной монополии должны были заработать и попечительства о народной трезвости, но заложенные на них деньги как-то незаметно перетекли в статью военных расходов. И все дискуссии о борьбе с пьянством сосредоточились исключительно на страницах газет». Нет, ещё крестьянское общество села Петропавловка Киренского уезда объявило «монопольке» войну — ходатайствовало о закрытии всех имеющихся в волости питейных заведений. В сущности, Иркутская губерния получила реальный шанс подхватить и развить «великий почин», показывающий, что и в каторжной Сибири есть граждане. Но, к сожалению, ни местная власть, ни местное общество, достаточно разрозненное, не воспользовались такой возможностью. А с открытием казённой винной лавки на станции Адриановка пьянство среди рабочих и железнодорожных агентов усилилось до такой степени, что в июле 1904 года приходилось даже отменять движение поездов. Любопытным следствием введения казённой винной монополии стало и возвращение мелких денег. Казённые цены на спиртное не округлялись как прежние, коммерческие — и в карманы покупателей посыпалась сдача из полушек и денежек. Впрочем, на сдачу можно было взять и «письмо-перевод на усиление флота» — стараниями министра финансов такая форма военных пожертвований распространилась и на казённые винные лавки. Возвращение мелких денег раздосадовало профессиональных нищих. Вечерами, возвращаясь в ночлежный дом, они долго ворчали, что «там, где прежде бросали копейки, нынче только полушки дают, а с полушек, известное дело, за цельный день и на одну бутылочку не настреляешь!» В обход кризиса 12 августа 1904 года министр путей сообщения князь Хилков, осматривая депо в порту Байкал, обнаружил самодвижущийся механический экипаж, не похожий ни на один из известных ему образцов. Разработал его некто К-н, инженер-механик Байкальской переправы. А техник этой же переправы Б-в придумал новое рельсовое крепление, позволявшее увеличивать скорость и при этом сокращать расходы на топливо. Министр был весьма впечатлён и распорядился отвезти чертежи в Петербург. Прокладка Кругобайкальской железной дороги, сложнейшего из сооружений, стянула в Иркутск лучшие инженерные силы и создала ту атмосферу, в которой и происходят настоящие прорывы и открытия. Тем более что в непосредственной близости от Кругобайкальской обнаружились залежи меди и кальциевая соль. Информация об этом очень быстро разнеслась телеграфом, и осенью 1904 года в Иркутске ожидались представители зарубежной добывающей фирмы. Интерес иностранцев был, конечно, понятен, но ведь и в Иркутской губернии были солидные капиталы, которым можно было дать новое применение. Увы, война больно ударила по коммерсантам. Первой встала Усольская спичечная фабрика, затем начали останавливаться кожевенные заводы и зависящие от них клееваренные, мыловаренные и дубильные. Многие из торговцев, чья прибыль зависела от быстрой доставки товаров из Европейской России, оказались перед угрозой банкротства. Торговый дом «Алексеев и Сапожников» вынужден был прекратить торговлю из-за нехватки товаров. Осенью 1904 года цены на основные товары в Иркутске во многом определялись загруженностью железной дороги. Сначала вагоны с товарами прицепляли к воинским эшелонам, но очень скоро предприниматели убедились, что «так торговать нельзя»: время прибытия грузов получателям сообщать не разрешалось, остановки на станциях были очень недолгими, и их не хватало на разгрузку товара. О сложностях с подвозом товаров в ноябре 1904-го телеграфировали в Иркутск коммерсанты Кальмеер, Ощепов, Сарачев, Приставка, Камов. Кроме того, для беспрепятственного следования грузов требовалось много разрешительных документов. Торговец Степанченко купил в Петропавловске партию мяса для доставки в Иркутск, а при погрузке выяснилось, что выданных городской управой бумаг недостаточно — требуются ещё и от иркутского губернатора. Степанченко принялся хлопотать и спустя какое-то время получил нужные документы. Но к моменту отправки мяса они уже утратили силу, и понадобилось новое разрешение — от генерала Левашова. И Степанченко отправился искать Левашова в Омск, а затем в Томск. Чехарда с разрешениями возникла по причине вскрывшихся злоупотреблений в Иркутске: летом 1904 года городская управа получила особые полномочия — выдавать разрешения на провоз по железной дороге товаров первой необходимости. И немедля явились авантюристы с большим желанием сорвать куш. И начали спекулировать пропусками. Заторы на железной дороге привели и к тому, что вчерашние конкуренты начали обмениваться товарами; разворотливые приказчики отправляли в соседние магазины шевиот, трикотаж, а оттуда несли подкладочный шёлк и сукно. Такому натягиванию ассортимента способствовало огромное число торговых и промышленных предприятий: в 1904 году их в Иркутске насчитывалось 1830 с оборотом в 31 миллион 13 тысяч рублей (половина оборота губернии). Конечно, обменный механизм был отчасти обманным и, безусловно, временным, но параллельно ему иркутские коммерсанты запустили ещё один — почтовый: стали выписывать товары с наложенным платежом. Благо, почтовые вагоны отправлялись по расписанию и по дороге не загонялись в тупики. К началу сентября на иркутском почтамте выдавалось до тысячи посылок ежедневно. С утра здесь выстраивалась очередь из приказчиков, а вдоль дороги ожидали загрузки многочисленные экипажи. Обывателю было и не пробиться сквозь этот строй за своей бандеролькой... Конечно, пересылка значительно удорожала товары, но коммерсанты не стеснялись перекладывать дополнительные расходы на покупателей: к примеру, сахар к осени 1904 года поднялся с 18 копеек за фунт до 24 копеек. Но при этом он не исчез, как в Красноярске и Томске, и эту, «сладкую жизнь» обеспечила почта, по сути, превратившаяся в транспортную контору. Разумеется, и здесь скоро бы образовался затор, но в последней декаде сентября коммерсант Воллернер подвёз большую партию сахара, а новый торговый дом «Хохуткин и Прейсман» в избытке предложил и чай, и масло, и крупчатку, и сахар. Спекулянты, не желая сдаваться, попробовали скупить вчерашний дефицит «на корню», но его было слишком много, да и приказчики не допустили больших запродаж. Спекулянты поскандалили, погрозили «выщелкнуть стёкла» в магазинах — и успокоились. А «Иркутские губернские ведомости» вышли с торжественным: «Цены пали!» Опасаясь обычного для войны скачка цен на товары, иркутский военный генерал-губернатор граф Кутайсов ограничил торговую наценку на товары первой необходимости 7 процентами. Коммерсанты, до сей поры не имевшие такого ограничения, привыкли свободно распоряжаться деньгами, приплачивая тут и там, лишь бы двинуть товар поскорее. А теперь нужно было стремительно перестраиваться или же смириться с минимальной прибылью. Ни к тому, ни к другому торговцы готовы не были, и в своём обращении к губернатору в ноябре 1904 года члены продовольственной комиссии городской думы (они же и крупные подрядчики) предупредили: «Может случиться, что многие вовсе не пожелают привозить товар в Иркутск, и тогда этот город не будет иметь товара даже по самой дорогой цене». Брачная предосторожность В номере от 12 сентября 1904 года «Иркутские губернские ведомости» рассказали об очередном Определении Святого синода». Его текст уже был напечатан в «Иркутских епархиальных ведомостях», но оказался настолько витиеватым, перегруженным ссылками и отсылками, что требовался перевод на доступный язык. Эту работу и проделали корреспонденты губернской газеты, выделив главное: Синод снимает запрет на браки с «четвёртой степенью родства». Такой поворот заставил иначе взглянуть на громкое дело, четырнадцать лет назад разбиравшееся в губернском суде. Семья поселенца Ищенко лет пятнадцать крестьянствовала под Нижнеудинском — с переменным успехом, но скопила-таки небольшую денежку и к середине восьмидесятых годов переселилась в Иркутск, прикупив по случаю небольшой домик, чрезвычайно удачно расположенный — рядом с Хлебным базаром. В первое же лето глава семейства прорубил дополнительный вход и пустил квартирантов. Во второе лето убрал огородные грядки и сделал двухэтажный пристрой. Который и позволил лет через пять сколотить неплохое приданое для единственной дочки Дуни. Из присватавшихся выбрали немногословного трезвенника Посохина. На второй день свадьбы, хваля молодого, гости принялись расписывать его родню — вот тут-то и выяснилось, что троюродный дядя Посохина породнился с кем-то из Ищенков, проживающих в Вятской губернии. После небольшой паузы отец новобрачной поднялся и решительно объявил: — Вятских не имеем в родне, мы — другие Ищенки. — Да все Ищенки от одного, ищенковского корня идут! — послышалось пьяненькое, свадьба смялась, и хоть молодые и отбыли на другой же день в Верхнеудинск, разговоры поползли от забора к забору и доползли-таки до венчавшего пару священника. Дело о кровосмешении слушалось 11 января 1890 года уже в самом конце судебного заседания, четырнадцатым по счёту, и уложилось в полчаса — к большому неудовольствию публики. Молодая чета, чрезвычайно смущённая, желала лишь одного — чтобы всё поскорее кончилось. Судьи же и тем более не вникали в детали. В предреволюционном 1904 году Святой синод активно отступал от традиционных запретов в самом патриархальном из всех институтов — семейном. При этом отступление тщательно маскировалось, ни один из запретов прямо не назывался отжившим, а представлялся как бы в новой редакции. Так, прежде статья 253 Устава духовной консистории осуждала на безбрачие всех, чья супружеская неверность привела к расторжению брака. Теперь же уличённые на суде получали возможность вступления в новый брак. И только его расторжение всё по той же причине прелюбодеяния угрожало безбрачием. Церковные нововведения вступали в силу после высочайшего утверждения, и в иркутской епархии многие сомневались, что доклад обер-прокурора Синода найдёт поддержку у Императора. В губернском же управлении и в губернском суде, напротив, не сомневались в этом — и не ошиблись. До семьи же иркутского мещанина Гудымова «поправки к прелюбодеянию» вообще не дошли — просто потому, что Фёдор Пантелеймонович не выписывал «Иркутские губернские ведомости». Правда, в торговых рядах говорили о чём-то таком, но Гудымов не вслушивался, полагая, что «не пристало это отцу взрослой девицы, почти просватанной». Семья Гудымовых проживала на Малыгинской улице Знаменского предместья. Дом был старый, но досмотренный, крепкий и располагался в соседстве с бывшей усадьбой Пономарёвых, про которых все вокруг говорили с почтением. На Малыгинской много лет пили чай, выращенный на китайских плантациях под присмотром купца первой гильдии Павла Андреевича Пономарёва. А история его женитьбы на бесприданнице сотни раз пересказывалась как наглядный пример неизбежного вознаграждения за непритворную скромность и добрый нрав. Фёдор Пантелеймонович требовал от супруги держать дочку Настю «в пристойности» и даже предлагал поместить её в Сиропитательный дом Медведниковой, где порядки строгие и домоводству обучают отменно. Но Елизавета Михайловна возразила, что «грех оно, при живых-то родителях да в сиротский ряд». Она оказала мужу столь неожиданное сопротивление, что он несколько смутился и согласился на прогимназию. Училась Настя без особых успехов, но достаточно ровно и в своё время перешла в гимназию. Тут и начались сложности; к шестому классу на хорошеньком личике появилось испуганное выражение, перед контрольными и экзаменами Настя неизменно заболевала, и чем дальше — тем серьёзнее. Кроме того, Елизавету Михайловну пугали «глазковские настроения», которые Настя приносила из гимназии. Почти половина её одноклассниц были из семей железнодорожников, а «чугунка», известное дело, несла много опасного. Настины сверстницы танцевали уже кекуок, читали романы и шептались о равенстве мужчины и женщины. Одним словом, в седьмой класс Настю решено было не отдавать, но пока что молчать об этом. Лето она провела в деревне, под присмотром любимой тётки — сестры Фёдора Пантелеймоновича. И вернулась уже перед самым молебном, открывавшим занятия. Гимназическое платьице оказалось безнадёжно мало, и Елизавета Михайловна отправилась с дочерью в школьную лавку, но по дороге завернула в дорогой магазин Шафигулиных и обрядила Настю в роскошную дамскую шубку. И таким далёкими сразу стали и списывания контрольных, и снисходительные взгляды подружек и усталые вздохи учителей... За обедом Елизавета Михайловна как-то очень уместно вставила, что «от больших умственных занятий всегда опасная мигрень». Затем, смеясь, рассказала, что в июле заезжал к ним один торговец из Верхнеудинска и всё присватывался, обещая отдать молодым новый дом. А неделю назад заглянул вместе с сыном; правда, тот застеснялся, простоял у ворот, но соседки-то все глаза проглядели. Хотя что им смотреть, когда и приданое не собрали? О том, что приданое Насти совершенно готово, все знали ещё с середины апреля 1904 года, когда истёк срок специальной страховки на 5 тысяч рублей — именно столько и стоило самое дорогое приданое в магазинах Генриха Перетц на Большой. И Настя с тёткой Екатериной, посмотрев его, оценили вполне. Но само замужество представлялось тогда неопределённым, теперь же туман разом рассеялся — и Настя стушевалась. Конечно, ей рисовался новый дом в Верхнеудинске, где она будет жить, но хорошо ли? Вечером началась гроза, и мысли Насти окончательно спутались. Под раскаты грома ей вспоминались с детства слышанные истории о несчастных жёнах, страдающих от побоев мужей и в отчаянии принимающих раствор фосфорных спичек. О Совестном суде, где старики-родители просят обязать сыновей выдавать им деньги на пропитание. Проснулась она уже за полдень, когда уроки в гимназии подходили к концу. Елизавета Михайловна, подливая ей чаю, и не заговаривала об учёбе. Свадьбу Гудымовы отнесли к началу апреля, когда Насте исполнилось девятнадцать. К той поре на лице у неё закрепилось спокойное, уверенное выражение, с оттенком некоторого любопытства. Фёдор Пантелеймонович три раза инкогнито побывал в Верхнеудинске, навёл нужные справки и остался доволен. А вот Елизавета Михайловна с конца марта загрустила вдруг. И стала уговаривать сестру мужа поехать вместе с Настей. На Малыгинской Екатерину Пантелеймоновну Сафьянникову называли «старой девой Катериной». При этом ни у кого не возникало вопроса, отчего это у сестры Фёдора другая фамилия. И даже Настя не догадывалась, что её тётка в семнадцать лет страстно влюбилась в офицера, тайно обвенчалась с ним и отправилась вслед за полком. Между тем, молодой супруг через месяц начал новый роман. Екатерина чуть не бросилась в реку, но гудымовский здравый смысл перевесил, и она, отстав от полка, определилась в фельдшерскую школу. Офицер горько запил, попал «в историю» и был сослан. Сразу после суда он передал Екатерине письмо, умоляя следовать за ним в Сибирь. И она последовала, но не за ним, а за братом Фёдором, который поселился в Иркутске, на Малыгинской улице. Весной 1892 года в «Иркутских губернских ведомостях» напечатали новые, облегчённые правила расторжения брака со ссыльными. Новость расходилась медленно, но верно, и к 1904 году иркутское Епархиальное управление было буквально завалено прошениями о разводе и вступлении в новый брак. Разъяснений, что разводятся только там, где венчались, никто не воспринимал: всем хотелось неотложного счастья. «Возможно, и я оказалась бы столь же нетерпеливой, будь рядом любимый и любящий человек, — рассуждала Екатерина Пантелеймоновна, — но мне даже и не хочется, чтобы он был; поэтому я спокойно дождусь очередного отпуска, навещу родные места да, кстати, и разведусь». Одним из попутчиков Сафьянниковой оказался молодой, ироничный и весьма просвещённый в женском вопросе присяжный поверенный. — Движение законодательства в сторону освобождения женщины очевидно, но боюсь, что женатые собственники ещё долго не захотят этого замечать, — он заразительно рассмеялся. — Кстати, об этом очень наглядно свидетельствует и сводка происшествий. В прошлом году штабс-капитан Адольф Цандт проводил супругу Ванду на иркутский вокзал, однако у столичных родственников она так и не появилась, и Цандт объявил её в розыск «в видах привлечения к суду». Этот случай напомнил мне другую иркутскую историю, которую мы, адвокаты используем как классический пример мужского шовинизма. В 1890 году в иркутское городское полицейское управление обратился Федор Михайлович Бабочкин. Он просил разыскать свою супругу Веру Семеновну Бабочкину, которую десять лет назад «уволил для отдельного проживания в течение 1 года». Вернувшись в Иркутск свободной от брачных уз, Екатерина Пантелеймоновна узнала, что несколько прогрессивных и хорошо образованных иркутянок хотят учредить городское Общество защиты несчастных женщин — и немедленно присоединилась к ним. «Но всё начинание замёрзло из-за пререкания учредителей при обсуждении устава общества, — написал позже корреспондент «Иркутских губернских ведомостей». А про себя добавил: «Потому что пытались обойтись без мужчин». Юзефович телеграфирует 30 октября 1904 года в столичной газете «Новое время» напечатали анонимную телеграмму из Иркутска, извещавшую, что местная дума отличилась «патриотичным» ходатайством об освобождении её от размещения в городе раненых. Утверждалось также, что служащие иркутской управы Белопольский и Алканович торгуют удостоверениями на провоз товаров по железной дороге; называлась и сумма взятки — 300 рублей за вагон. Этот номер газеты иркутский городской голова принёс на очередное заседание думы 11 ноября и активно цитировал. Но главная бомба разорвалась, когда дело дошло до утверждения протокола предыдущего заседания думы, в котором оказалось вдруг «Особое мнение» члена городской управы Юзефовича. При этом все хорошо помнили, что никакого «Особого мнения» он не высказывал. Пока гласные пребывают в недоумении, вернёмся к событиям полумесячной давности. 12 октября поступила телеграмма председателя исполнительного комитета Общества Красного Креста о незамедлительном размещении 15 тысяч раненых. То есть Петербург почему-то решил, что Иркутск обладает большими свободными площадями и всеми необходимыми коммуникациями — между тем как не было ни того, ни другого. С прокладкой железной дороги численность населения здесь подскочила в полтора раза (с 50 тысяч до 75), и эти 25 тысяч человек попали на положение лишних, потому что «ёмкость» города на них не рассчитывалась. А с началом Русско-японской войны, когда в Иркутске сконцентрировались запасные полки, положение стало просто катастрофическим, ведь в городе не было ни центрального водопровода, ни канализации. Попытки перевести солдат на постой к обывателям вызвали резкие вспышки заболеваний. Тем не менее, к октябрю город обустроил четыре военных лазарета: в Сибиряковской богадельне, Красных казармах, домах Жбанова, а также торгового дома «Щелкунов и Метелёв». Готовились к открытию лазареты в Знаменском и Князе-Владимирском монастырях. Легкораненые во время остановки в Иркутске находили приют в удобном помещении конвойной команды, съехавшей в одну из полицейских частей. Здания же начальных училищ, отданные военным в начале весны, до сих пор оставались под казармами. Двести глазковских ребятишек осенью 1904 го года вообще не приступили к занятиям. Когда городская и губернская власть лихорадочно искала подходящие помещения для раненых, зубной врач Жукова-Иванова предложила использовать пригородные дачи, Иннокентьевский скит и... Александровскую каторжную тюрьму. Что до последней, то она имела несомненное преимущество не только по размерам и уровню благоустройства, но и по ценам на питание и медикаменты. Правда, воспользоваться образцовой тюрьмой можно было лишь заручившись согласием министерства юстиции, а времени для этого уже не оставалось: начальник Сибирского военного округа телеграфировал, что в объяснениях не нуждается и всё необходимое готов просто взять — «как если бы Иркутск оказался побеждённым неприятельским городом». В столь сложной ситуации иркутская дума смогла принять мужественное решение о недопустимости размещения в городе 15 тысяч раненых. И произошло это, кстати, на том самом заседании 20 октября, протокол которого вдруг прирос «Особым мнением» Юзефовича — обвинением «в отсутствии патриотизма и бесчеловечном отношении к раненым». К счастью, местное самоуправление поддержали два авторитетных сенатора — граф Кутайсов, занимавший должность иркутского военного генерал-губернатора, и фон Кауфман, официальный представитель в Иркутске Красного Креста. Оба поставили свои подписи под заключением, что реально речь может идти о размещении лишь 3585 раненых, да и то при условии реквизиции учебных заведений. Основную ответственность принял на себя, конечно же, начальник края Кутайсов, ведь это ему теперь предстояло «бодаться» с начальником Сибирского военного округа и объясняться с двумя министрами — военным и внутренних дел. Тем временем городская дума озаботилась разбором доноса в «Новое время». Юзефович признался в авторстве, выразил сожаление, что «форма, возможно, оказалась не самой удачной», но при этом и уверял, что «действовал без злого умысла». Гласные смягчились и постановили «ограничиться лёгким замечанием». Нераспустившиеся цветы 1 ноября 1904 года в полицию пришли мальчишки в лохмотьях и заявили, что им нечего есть. Этот эпизод немедленно стал достоянием газетной хроники, но не потому, что беспризорники были в диковинку — удивил сам факт обращения в полицию. Ведь обычно такие ребятишки примыкали ко взрослым «нищим» и вместе с ними промышляли попрошайничеством и воровством. Вот и в тот самый день, когда полицейские делились с нежданными «гостями» обедом, в лавке напротив Пестерёвской поймали шайку малолетних воришек. А в конце ноября во 2 полицейскую часть был доставлен девятилетний парнишка, избегавший решительно всю Сибирь и везде находивший крышу и пропитание. Мать, не знавшая уже, что с ним делать, привела сына к приставу «для вразумления». На вопрос, зачем он всё бегает и ворует, «путешественник» с совершенной серьёзностью отвечал: «Тянет, не могу усидеть!» Кончилось тем, что его определили в иркутскую земледельческую колонию — так официально называлось исправительное учреждение для малолетних преступников. Мысль об устройстве такой колонии подал в конце девятнадцатого века один высокопоставленный чиновник из Петербурга. И бывший в ту пору городским головой Владимир Платонович Сукачев идею не только поддержал, но и пожертвовал собственный земельный участок со строениями, а также 10 тысяч рублей. А гласные думы выделили 12 десятин для сельскохозяйственных работ. 28 февраля 1899 года колония была освящена и приняла первых шесть питомцев. При этом государство не приняло на себя никаких обязательств по содержанию колонии, и после отъезда из Иркутска Сукачёва попечительскому совету пришлось достаточно тяжко. Средства добывались буквально из воздуха — организовывались благотворительные спектакли, лотереи-аллегри и пр. Так же обеспечивались в Иркутске приюты, воспитательный дом, школа арестантских детей — не было ни государственных детских программ, ни даже детской статистики. В 1904 году «Иркутские губернские ведомости» констатировали: «Опубликованы статистические данные переписи населения Иркутска на 1 января 1904 года, при этом графа «Дети» отсутствует вовсе». В Базановский воспитательный дом ежегодно подбрасывали не менее 50 младенцев, и большинство из них умирали ещё до года — педиатрия той поры была очень слаба, да и «мамочки» мало заботились о будущих детях во время беременности. В «Открытым письме» к горожанам председатель иркутского Сиротского суда Концевич говорил без обиняков: «За девять лет службы я воочию убедился, в каком безотрадном положении у нас находится масса детей. Не говоря уже о круглых сиротах, бесприютных, брошенных на произвол судьбы, живущих милостыней, я знаю много случаев, когда, имея родителей, дети растут в таких условиях, что из них неминуемо выйдут обитатели ночлежных домов, домов терпимости и тюрем. При всём желании мне удавалось помочь лишь единицам». 10 мая 1901 года на площадке у Преображенской церкви собралось несколько сотен дошкольников и младших школьников — все ждали открытие детских игр. Любопытство разбирало и взрослых, ведь ничего подобного прежде в Иркутске не бывало. Возможно, поэтому многие и не верили, что из затеи что-то получится. Однако на площадке (тут же прозванной Детской) проиграли всё лето, а в сентябре состоялось карнавальное шествие «Времена года». Город был приятно удивлён, а «Иркутские губернские ведомости» завели специальную рубрику для детских новостей. Рассказывать было о чём: к лету 1904 года начались уже образовательные экскурсии на местные предприятия, открылся рукодельный кружок, появилась сцена, на которую допускались только лучшие постановки, отобранные взыскательными педагогами. Летом 1904-го давали «Мазепу», «Станционного смотрителя», «Каширскую старину». Спектакли шли утром и вечером, а днём работала бесплатная детская библиотека-читальня. К сожалению, многие ребятишки могли только «картинки поглядеть», хоть и имели от роду десять-тринадцать лет. «Вот бы кто поучил нас читать, — говорили они, — а то в школе нам места нет, родителям некогда, да и малограмотные они». И скоро на Детской площадке заработал ликбез. А на 1 октября назначен был первый за всю иркутскую историю детский утренник. Госпожа Бекель, а за ней и графиня Кутайсова открыли в 1904 году бесплатные детские столовые, но всё же: чем холоднее становилось на улицах, тем заметнее были голодные личики. В эту зиму объявился и новый род нищенства: пьющие родители под угрозой побоев оставляли малолетнего сына или дочь на бойком месте, и дети, рыдая, рассказывали сердобольным прохожим историю о рубле, потерянном «по дороге в аптеку». Те же, что постарше, сбивались в стаи и ходили по дворам, представляясь «ремонтёрами», собирая утварь для починки и высматривая, как удобней хозяев обокрасть. У таких «ремонтёров» на лице была яркая печать нескольких поколений опустившихся и уже привыкших к пребыванию на дне. Даже если причудливой игрой генов прорезались способности к наукам и ребёнок оказывался на школьной скамье, печать долго ещё оставалась, придавая лицу какое— то старческое выражение. Осенью 1904 года из деревни Боярской в волостной центр Орлинга вывезен был на средства «обчества» один очень способный мальчик. По подписке собрали ему на рубашку, но яркая обновка лишь подчеркнула угрюмость на испитом от рождения лице. В ожидании выстрела До дома генерал-губернатора, где собирались члены Благотворительного общества, пешком было пять минут, и Виноградов с удовольствием прогулялся бы после кабинетной работы, но не хотел рисковать: «галкинские» фонари, навязанные Иркутску в бытность городским головой Шостаковича, все вышли из строя, и с семи часов вечера город погружался в полную темноту. После заседания всех членов комиссии поджидали экипажи, и видно было, что кучера держатся кучкой и часто вглядываются в темноту: за последние две недели в Иркутске погибло несколько возниц. В ночь на 12 октября 1904 года злоумышленники наняли у гостиницы «Метрополь» извозчика до собора Богоявления, а по дороге убили. Соборный караульный Бобровников вовремя заметил их, за что и поплатился ранением в ногу. Развернув лошадь, преступники домчались до Крестовоздвиженской церкви и взломали замки. Спавшего сторожа в живых решили не оставлять... Дерзость преступников в Иркутске 1904 года просто не знала границ: средь бела дня на главной улице города, орудуя долотом или угрожая ножом, отбирали ридикюли и портмоне. В кустах у Верхоленской горы устраивали засады на возвращающихся с базара крестьян. Любая война поднимает тяжёлую, тёмную кровь, но это, русско-японское противостояние усугублялось ещё и недавней амнистией: 200 уголовников вышли на свободу из Иркутского тюремного замка и ещё 800 — из Александровской центральной тюрьмы. Вся эта рать и ринулась на «городские промыслы»; а на подходе была ещё и «ангарщина» — не одна сотня соскучившихся по вольной жизни рабочих горных, охотничьих и рыбных промыслов. В Иркутске усиленно раскупалось оружие, и каждое утро, надевая пальто, мирный горожанин не забывал опустить в карман револьвер. Мятежный дух войны проник и в самые отдалённые уголки тыловой Иркутской губернии, и здесь тоже открылась своя «линия фронта». Даже в тихом селении Бельском, где мысли каждого известны наперечёт, с началом осени пошли мелкие кражи, постепенно перешедшие в грабежи. И вот в эту-то опасную пору один из иркутских домовладельцев и надумал обжаловать в Сенате постановление думы о ночном карауле. Необходимость охраны он под сомнение не поставил, но порядок оплаты караульным счёл недемократичным — «по причине отсутствия предварительного обсуждения». Сенат, плохо представлявший условия проживания в Иркутске, не пожелал вдаваться в детали, а просто взял да и отменил критикуемое постановление — и караул немедленно был распущен. Тогда гласные И.И.Концевич и Г.Б.Патушинский предложили создать конную стражу на артельных началах, но это потребовало бы известного времени, пока же решили составить депутацию к генерал-губернатору и просить его о военном усиленном патруле. Ещё в сентябре командующий войсками Сибирского военного округа распорядился о ночном дозоре из 16 казаков и 20 нижних чинов. Для иркутской полиции это стало пусть небольшой, но подмогой: с начала мобилизации ей катастрофически не хватало личного состава, пришлось даже вызывать на подмогу отряд из Петербурга. Столичные полицейские умилили обывателя деликатностью обращения, но пробыли в Иркутске недолго — и снова исполняющий должность иркутского полицмейстера Драгомиров остался с дырявым штатным расписанием. В городской думе у него, правда, были союзники, ратовавшие за усиление полиции, но они составляли явное меньшинство, и при голосовании брали верх демагоги. На октябрьском заседании думы, когда снова зашла речь о безопасности горожан, недавний городской голова Шостакович снова свёл всё к бумагам: — Городовым положением точно определена роль ночных караульных как средства не полицейской, а противопожарной охраны... Кончилось же тем, что вопрос передали в комиссию по рассмотрению... извозчичьих правил и такс. Раздосадованный Драгомиров после заседания думы даже не заглянул в Управление, а сразу отправился с объездом по городу. Он делал это ежедневно, и в будни, и в праздники, но сегодня нужно было ещё и успокоиться — и действительно, скоро мысли приняли свой обычный ход. А на другое утро по полицейским частям развозился очередной приказ: «При объезде города мало встречаю чинов полиции, не считая постовых городовых. Очевидно, господа приставы и их помощники, а также околоточные надзиратели слишком много отдаются канцелярской, бумажной работе вместо прямого своего назначения быть чинами наружной полиции. В участковых управлениях имеются вполне ответственные чиновники-письмоводители, на их обязанности и лежит канцелярская работа, приставы же, их помощники и околоточные надзиратели чаще должны обходить свои районы для наблюдения за порядком, городским благоустройством, общественной безопасностью, а также за постовою и караульною службою в городе». В то время как полицмейстер выводил подчинённых на улицы, один из горожан опробовал свой способ борьбы с преступностью: открыл бесплатную чайную для беспризорного люда. Ценовой барьер Некто Мунькин, снимающий квартиру на Спасо-Лютеранской, 15 разместил в «Иркутских губернских ведомостях» весьма претенциозное объявление: «Произвожу укупорку окон варшавским способом, так что стёкла после укупорки уже более не замерзают. При этом окна могут всю зиму открываться и закрываться». Спустя месяц у Мунькина иссяк укупорочный материал, и теперь, подавая объявления, он обещал только вывести сырость — «в каких угодно помещениях безвозвратно». Эта услуга так же оказалась весьма востребованной: многие квартиры в Иркутске были сыры и холодны. Но при этом дороги. В руках местных ремесленников печи-голландки непозволительно растолстели и утратили все природные качества. Иркутск вообще страдал недостатком хороших печников: в ремесленную управу поступало немало жалоб на то, что и «русские» и «голландки» топятся навылет, обогревая не столько дом, сколько улицу, а кроме того, становятся причиной пожаров. Более состоятельные обыватели запасались переносными печками европейского производства: на Баснинской располагался склад Генриха Бруно, предлагавший большой выбор печей, рассчитанных и на уголь, и на керосин, и на дрова. Любопытно, что «Известия Иркутской городской думы» за апрель-май 1904 года, дав подробную роспись цен на топливо, графу «дрова однополенные (квартирные)» оставили совершенно пустой. Что и послужило тревожным сигналом для обывателя: — Ведь известно ж, как много дров уходит теперь на отопление поездов, и все они отдаются железной дороге не только вне очереди, но и по заготовительным ценам! — возмущался в торговых рядах один осанистый господин. — Кроме того, в нынешнюю зиму городу потребуется и дополнительное топливо — для запасных полков, коих у нас не счесть. Положим, военные душу вытрясут из заготовителей, а своего добьются уже к сентябрю; но сезонные цены всё равно подскочат и, боюсь, станут неподъёмными для рядовых горожан. Встревоженные обыватели потянулись к складам лесоторговцев, но цены были уже неприступны: 11 рублей за сажень против 3 рублей год назад! Начинавшуюся панику остановило местное отделение Управления государственными имуществами: 1 октября 1904 года оно официально заявило, что каждый желающий может выписать дрова по 4 рубля 50 копеек за квартирную сажень в канцелярии Байкальского лесничества. Вообще, дровяной кризис в Иркутске был привычным явлением, за которым всегда угадывались интересы лесоторговцев. Они же состояли и гласными думы и без стеснения пользовались возможностью держать цены, не допуская на рынок Управление государственными имуществами. Сначала опасного конкурента обвиняли в намерении «засорить наш прекрасный город щепой»; затем отпугивали вздёрнутой арендной платой и требовали письменного согласия министерства «уплатить за участок под склад любую сумму, какую только назначит город». Когда же и этот документ был представлен, выяснилось, что подряд на поставку Иркутску годового запаса дров уже отдан — двум гласным думы, Глотову и Ясинскому. И отдан на 1200 рублей дороже обычного. Эту невероятную цену объясняли «особенностями военного времени», но в заседании думы 14 октября 1904 года вскрылась истинная причина податливости городской управы: Глотов и Ясинский обещали всем «способствовавшим» небольшой откат в виде дров со скидкой. Получив денежки, оба и думать забыли про подряд. Встревоженная управа, забыв осторожность, вынесла вопрос «личных дров» на заседание думы — тут-то всё и выскочило наружу. И — ничего: когда гласный Первунинский запросил список покусившихся на городские дрова управленцев, голова наотрез отказался его представлять. А член управы Юзефович даже заметил с укором: «Зачем оглашать семейные дела?» В ожидании всевозможных кризисов, от дровяного до сахарного, не имевшие доходных домов иркутяне решили потесниться и взять квартирантов. Иркутские газеты запестрили всевозможными объявлениями о «чистых комнатах с самоваром для интеллигентных особ». Одна такая комната в центре города осенью 1904 года обходилась не менее чем в пятнадцать рублей; семейная квартира (без дров) предлагалась за 30-35 рублей, а квартира с тёплым ватер-клозетом доходила и до 60, что даже для чиновника средней руки было непомерно дорого. 1 декабря, около шести часов вечера солист оперы Горяинов шел по 4 Солдатской в сторону Большой и почти достиг цели, когда трое неизвестных выскочили из укрытия, оглушили артиста и сняли с него шубу. Сообщая об этом в следующем номере «Иркутских губернских новостей», хроникёр непреминул уточнить: цена шубы 400 рублей, и для того чтобы заработать такую сумму, чиновнику средней руки понадобилось бы семь месяцев, а машинистке или доставщику телеграмм и того более — почти полтора года. 3 декабря на сцене Общественного собрания давалось театральное обозрение «Наша жизнь», включили в него и эпизод с горяиновской шубой. Однако, вопреки замыслу режиссёра, публика не обнаружила никакого сочувствия, напротив, в задних рядах слышалось язвительное: «А Горяинову и горя мало: он ещё дороже шубу возьмёт...» В 1904 году обладатели контральто и лирического сопрано получали от антрепренёра иркутской оперной антрепризы по 600 рублей ежемесячно. Ещё выше (900 рублей) оценивались басы и меццо-сопрано, но дороже всего обходились драматические теноры (1300 рублей) и баритоны (почти 1500 рублей). На этом список сверхвысокооплачиваемых и заканчивался. Даже очень хороший оперный дирижёр в целый год не зарабатывал столько, сколько баритон за два месяца. Режиссёры и оркестранты оценивались как чиновники средней руки, то есть могли рассчитывать лишь на 100-150 рублей в месяц. Холостякам хватало, даже и колечко невесте удавалось купить, но едва начиналась семейная жизнь, сразу же обнаруживались и прорехи в бюджете. Становилось ясно, что одних способностей и образования мало, к ним ещё бы талант и упорный, упорный труд; тогда, может, годам к сорока и проклюнутся внешние признаки семейного благополучия — массивные золотые часы рублей за 200 и серьги от известного ювелира рублей за 450500. Кстати, посещение оперы для большинства иркутян было просто не по карману: аванс за абонемент принимался не менее чем в 200 рублей. В сезон овощей обыватель мог улучить подходящий момент и сторговать морковку по 30-35 копеек за сотню, а в сезон ягод прикупить голубицы по 70-90 копеек за ведро и красной смородины — по 50-70 копеек. Общая экономия составляла копеек 70 — то есть как раз на дорогу до дома; впрочем, извозчики меньше чем за рубль за Ангару и за Ушаковку не везли — несмотря на утверждённую таксу. Так что образовавшегося «излишка» могло хватить разве что на поход в баню да на самовар чая со сливками. Набор ёлочных украшений в магазине Трапезникова на Пестерёвской предлагался аж по 2 рубля; обыватели с интересом разглядывали новинки, но брать не спешили. А после сворачивали в лавку торгового дома «Кириллов и Никитин», куда завезли стерлядь по цене 9 рублей за пуд. Или в лавку Гилёвой, что на Хлебном базаре, где такая же рыба предлагалась на пятьдесят копеек дешевле. Прикупив к ней мешок крупчатки из кладовых Дубникова (9 рублей 75 копеек за 3 сорт и 10 рублей 75 копеек за 2 сорт), можно было обеспечить семью сытными пирогами до самой Пасхи. Что до омулей, то ими запасались с осени, не без оснований рассчитывая на сезонное понижение цен. Вот и год 1904-й выдался удачным для рыбного промысла, в сентябре в Иркутск пришла полная баржа свежепросоленных омулей, и цены упали. К этой радости вскоре прибавилась и ещё одна — в аукционном зале Собокарёва на Большой Трапезниковской началась раздача талонов на мясные обеды в столовой иркутского Благотворительного общества «Утоли моя печали». Талоны предлагались книжками «Сто обедов», и каждый обходился в символическую сумму (из одного мясного блюда — в 3 копейки, из двух мясных блюд — в 5 копеек). Недовольные ценами иркутяне могли утешиться тем, к примеру, что, в Верхоленске сахар и керосин всегда были дороже. Что до Киренска, то там цены и в сравнении с Верхоленском увеличивалась в разы, и выбор товаров невелик, и лавочники не сказать чтобы вежливы. На подступах к празднику В зиму 1904 года первый большой снег выпал буквально как снег на голову. Незадачливые хозяева, вычистив дворы, образовали завалы на улицах, и корреспондент «Иркутских губернских ведомостей», натурально, застрял на Большой улице. А когда добрался, наконец, до редакции, то сразу же принялся за заметку: «Вопрос о местах снежных свалок требует разъяснения...» В городской думе дыхание зимы ощутили ещё в октябре, когда объявили торги на сдачу в аренду прорубей и полоскательных будок, которые чаще именовали портомойнями. Всего под проруби и портомойни отдали 12 мест, в том числе: возле Чудотворской церкви, Острожного моста, Знаменского монастыря, Михеевской заимки, кузницы Белослюдцева. Ушаковка, в полном согласии с постановлением думы, тотчас после торгов вся покрылась льдом. На Ангаре же лишь намечались лёгкие забереги, с трудом угадывавшиеся сквозь туман. При такой видимости, естественно, закрылась плашкоутная переправа, но понтонный мост, в эту пору всегда разбиравшийся, как ни странно, стоял. 28 ноября его едва не разбило шугой, однако и после этого с разборкой не поспешили, а только укрепили косу Конного острова, на которой и стали раскалывать льдины. Конечно, арендаторы рисковали, но возможные убытки они без стеснения компенсировали из карманов многочисленных обывателей — удвоенной платой за проезд по мосту. Горожане роптали, но лишние деньги всё же выкладывали, потому что потеря времени в предрождественские недели обходилось дороже. В особенности торговцам. В конце ноября 1904 года, то есть в самый канун большой предпраздничной торговли, разносчик колбас Абрам Гуревич рассорился со своим хозяином Лейбом Бориком и недолго размышляя, ушёл к его конкуренту Коткину. Это был жестокий удар, и Лейб Борик два дня предавался мрачным остротам, а на третий отнёс в редакцию «Иркутских губернских ведомостей» объявление: «Прошу господ покупателей не смешивать мою торговлю с торговлей г. Коткина, где теперь и состоит разносчиком Абрам Гуревич. Довожу до сведения публики, что в моей колбасной мастерской на Преображенской улице в д. Кузнеца имеется еврейская колбаса. С почтением, Л. Борик». Колбаса и вправду удалась, однако цену на неё Борик занизил — попытался отбить клиента у Коткина. Домашние, имевшие свои виды на дополнительную праздничную выручку, огорчились. Но Лейб указал им на неудачный опыт иркутских извозчиков, взвинтивших таксу в предпраздничные недели: — Красный Крест посмотрел на их фортеля — да и отказался от большого заказа, и сам устроил обоз для перевозки раненых — более удобный и более дешёвый! Предпраздничная торговля, всегда приносившая неплохие барыши, заставила местных торговцев, не довольствуясь перевозкой по железной дороге, вспомнить и о подвозе товаров на лошадях. И потянулись по Московскому тракту подводы с мёдом, маслом, рыбой. С середины декабря и газетная хроника наполнилась ощущением близкого праздника. Антреприза Светловой все святки заполняла детскими спектаклями, антрепренёр Вольский обещал даже 1 января дать два спектакля, утренний и вечерний. На станции Иннокентьевской служащие железной дороги собрались в драмкружок и готовили первую постановку. И в 3 пожарной части устраивался святочный домашний спектакль. В почтовой конторе учредили два корреспондентских бюро для безграмотных: за небольшую плату там заполняли поздравительные открытки; а в телеграфной конторе с 20 декабря открылся заблаговременный приём поздравительных телеграмм. Но самый главный сюрприз приготовили в начальном училище имени Кладищевой: малыши-первоклассники собрали огромную рождественскую посылку для Сибирского пехотного полка! Пикник на обочине проигрываемой войны — Иркутск на редкость не приспособлен для войн, и это совершенно естественно, ведь вражеские армии ещё ни разу не доходили сюда. А многочисленные офицеры воспринимались в первую голову как посетители кофеен, гостиниц, ресторанов, борделей. Не случайно с началом русско-японской войны эти виды коммерции просто расцвели, — правитель канцелярии иркутского генерал-губернатора Николай Львович Гондатти испытующе посмотрел на своего собеседника. Господин фон Кауфман, официальный представитель Красного Креста в Иркутске, принадлежал к той тонкой прослойке общества, чья внешняя мягкость шла не от природной рыхлости темперамента и только отчасти объяснялась воспитанием. Определяющим тут был ум, столь глубокий, что никогда не довольствовался поверхностным толкованием всякого действия, а стремился постичь саму природу поступка и получал от этого своеобразное наслаждение. В сущности, к этой же, редкой категории относился и господин Гондатти — вот почему Кауфман обратился именно к нему, когда между Красным Крестом и иркутянами вдруг возникло недоразумение. Ни Общество приказчиков, ни Общественное собрание не пожелали даже и временно расстаться со своими просторными помещениями. Прямого отказа не было, но находились разные предлоги (вплоть до взвинчивания арендной платы), делавшие невозможным размещение в этих зданиях госпиталей. — Клубная жизнь с началом войны не только не прекратилась, но стала куда более активной, и это так же характерно для иркутян, их образа жизни, — продолжил Гондатти. — Благотворительными спектаклями, лекциями, концертами они будут гораздо более полезны для фронта, чем если просто передадут вам свои небольшие площадки. Пытаясь удержать их, горожане, как могут, сохраняют свой устоявшийся мир, и тут, если угодно, срабатывает ещё инерция мирной жизни. А кроме того, и страх перед недавней угрозой перевода Иркутска на военного положения. Когда она, наконец, миновала, многие бросились дарить друг другу цветы, и даже я, давно живя здесь, был поражён. — Да, и мне бросилось в глаза, что и небогатые обыватели покупают чрезвычайно дорогие букеты. Кажется, местные цветоводы не рассчитали с рассадой. — Ну, они своё наверстают, когда откроется Летний театр и начнётся сезон пикников. Поверьте, наша плашкоутная переправа решительно не справляется, когда на живописные берега Иркута отправляются многочисленные экипажи, натурально, забитые провизией. Вот тогда и высвобождаются только домашние погреба и хоть немного прореживаются витрины наших центральных магазинов. Меню иркутских ресторанов военного 1905 года так же отличалось большим разнообразием. Что было в принципе удивительно: город пережил угрозу голода, мука и сейчас ещё отпускалась не более пуда в руки. Вспышка чумы в Монголии лишила Иркутск привычного каравана с мясом, а то немногое, что производилось в губернии, активно скупал Красный Крест. Тем не менее, каждый имеющий средства мог получить отменный обед, ужин, приятно тянущийся до трёх часов ночи, и, конечно же, превосходный завтрак. Кажется, самый основательный завтрак 1905 года состоялся в июле, за городом, и почётных гостей доставили по новой ветке железной дороги. Машинист продемонстрировал большое искусство, остановившись ровнёхонько у украшенной зеленью арки, в которой и стояли встречавшие. А это были трое мужчин и нарядная дама — полковница Голубева, давно искавшая случая познакомиться с первой дамой края, графиней Кутайсовой. Для неё был заказан роскошный букет — вопреки протоколу, но гостья прекрасно вышла из положения, раздав цветы на память об общем празднике. А и в самом деле, это было событие — закладка 22 военных госпиталей на 9 тысяч больных и раненых. Правда, работы велись уже полным ходом, и по лицам рабочих было видно, что они с удовольствием сделают передышку и отдохнут в тени. Чуть в стороне и, натурально, в кустах расположился оркестр запасного батальона. С одной стороны, музыканты выигрывали, потому что день выдался жаркий, но, с другой стороны, им было плохо видно происходящее. И акт закладки, столь прекрасно обставленный генерал-майором Хлыновским, разглядеть совершенно не удалось. Что же до завтрака, то он был устроен и вовсе в отдалении, в специальном шатре. Хотя шампанское подали только в самом конце, все чины, и военные и гражданские, были чрезвычайно оживлены. По неписанному протоколу генерал-губернатор, граф Кутайсов поднял бокал за здоровье Императора. Затем тостовал начальник санитарно-эксплуатационной части Сибирского военного округа Хлыновский — за владыку-архиепископа, за генерал-губернатора и за супругу его, графиню Ольгу Васильевну. После чего ожидался ответный тост от Кутайсовых — и он последовал. На этом обязательная программа закончилась, и приступили к пожеланиям успеха строительству. А Кутайсов с генералом Хлыновским стали незаметно двигаться к выходу. По едва уловимому знаку чиновника по особым поручениям оба вышли из шатра и направились к рабочим, уже ждавшим, с хлебом-солью и замершими улыбками. Граф, последние полчаса только молча кивавший Хлыновскому и явно копивший силы, зашагал так пружинисто, засиял такими улыбками, что генерал только диву давался. Более часа губернатор летал меж заворожённых рабочих, расспрашивая, пожимая руки, и даже когда он обращался ко всем, у каждого было удивительное ощущение, что только на него и глядел начальник края. Батальонные музыканты, побросав инструменты, выскочили из кустов, а потом вместе с рабочими провожали Кутайсова долгим «Ура!» «Обеденный» поезд отбыл в Иркутск ровно в шесть часов вечера. На другое утро строители с умилением перебирали детали вчерашнего празднества, особо выделяя молодцеватость явно не молодого генерал-губернатора. Они не подозревали, что, добравшись до кабинета, граф рухнул на диван со словами: «Тяжёлая вещь эти завтраки! Право, лучше отбить у неприятеля высоту!» Завтрак закончился... ужином С началом местного самоуправления все общественно значимые обеды стали негласной обязанностью головы. А надо сказать, что никаких «представительских» в ту пору не было, и отец города должен был на каждый «обеденный случай» иметь туго набитый кошелёк. Бесспорно «обеденным случаем» считалась закладка храмов. Скажем, в бытность городским головой Ксенофонта Михайловича Сибирякова отстроена была новая каменная кладбищенская церковь во имя входа в Иерусалим Христа-Спасителя. 23 сентября 1820 года иркутское духовенство организовало Крестный ход к месту закладки, после чего всё местное общество, то есть все наличные купцы, дворяне и священнослужители последовали в дом городского головы. Обед полагалось давать и при назначении нового епископа. 12 ноября 1835 года в нескольких верстах от города, в Вознесенском монастыре городской голова Никанор Петрович Трапезников встретился с только что прибывшим епископом Иннокентием, дабы обсудить протокол его встречи в Иркутске и застолья в архиерейском доме. Оно было задумано как обед-представление, дающий возможность почувствовать городские пружины, определить главных персон. Сложность задачи потребовала от епископа необходимости сосредоточиться, и он посвятил этому весь следующий день. Обед состоялся лишь 14 ноября. Любопытно, что шестьдесят лет спустя внук Трапезникова (и тоже городской голова) В.П.Сукачёв так же сидел на обеде рядом с преосвященным. Правда, повод был другой (приезд в Иркутск главного тюремного начальника Галкина-Врасского), да и атмосфера иная, домашняя — обедали-то в усадьбе Владимира Платоновича. Кстати, атмосфера ценилась ничуть не меньше изысканной кухни, и между переменами блюд порою заключали крупные сделки, договаривались по важнейшим делам. Вот и на этот раз губернатор и генерал-губернатор в милой светской беседе проговорили столичному чиновнику всё, что не могли позволить в переписке. Доволен остался и хозяин, вообще отличавшийся хлебосольством и накрывавший столы по завершении каждого из своих начинаний. Если же Владимир Платонович был в отъезде, а «обеденный случай» всё-таки наступал, господа гласные (в большинстве своём очень не бедные люди) объявляли подписку. Так, к примеру, было в январе 1894 года, когда освящался новый, Казанский кафедральный собор. Так же, вскладчину отмечали и «царские дни» (вступления на престол, бракосочетания и пр.), когда полагалось выражать верноподданнические чувства. Куда более редкими были губернаторские обеды, средства на которые (как и на другие представительские расходы) зарабатывали губернские типографии. Впрочем, и тут, кроме прочего, играла роль расположенность или нерасположенность к публичным обедам генерал-губернатора. К примеру, Горемыкин, всегда погружённый в дела, мог отметить разве что день тезоименитства императора. Чины судебного ведомства любили встретиться в ресторане в годовщину судебной реформы. При этом наличие круглой даты считалось необязательным, но из всех обеденных залов предпочтение неизменно отдавалось «России». Сама идея застолья нередко возникала спонтанно, скажем, в ноябре 1901 года старший председатель Иркутской судебной палаты В.Р.Завадский и прокурор С.Г.Коваленский просто продолжили за обедом в «России» завязавшуюся между ними дискуссию. А к ним с удовольствием присоединились все присяжные поверенные и их помощники. Знатный вышел обед, как признали видавшие виды рестораторы. Куда более скромно, «в формате» завтрака, праздновали чиновники иркутского отделения Государственного банка. И поводы здесь всегда были серьёзны и тщательно выверены. Хорошим тоном считалось, к примеру, отмечать 25-летие службы в Сибири. Служащие Горного управления любили давать прощальные обеды возвращающимся в Россию. При этом подносились черепаховые альбомы с групповыми снимками и видами Иркутска. Особые заслуги отъезжавшего перед обществом отмечались именной стипендией в горном училище, собранной по подписке. Через «Гранд-Отель» отъезжали и военные высокого ранга, а вот обед для иркутских георгиевских кавалеров устраивался даже не в Офицерским собрании, а в кабинете уездного воинского начальника и был весьма скромным. Но при этом сердечным. Самыми задушевными считались застолья шестидесятых-семидесятых годов девятнадцатого столетия, когда волею случая в Иркутске собралась группа энтузиастов, получавших огромное удовольствие от добрых дел. Они входили во все общественные комитеты, попечительства, и почти все их идеи рождались на товарищеских завтраках и обедах. Так, 26 мая 1865 года, в столетие смерти Ломоносова, чиновником Борисом Алексеевичем Милютиным была заказана литургия и панихида в Харлампиевской церкви, а после устроен Ломоносовский завтрак. На нём-то и зародилась мысль учредить в Ремесленной слободе Ломоносовскую школу. Учеников набралось 40 человек, и они благополучно существовали, пока не уехали из Иркутска главные участники Ломоносовского завтрака. Всем им, кстати, не хватало потом и здешних завтраков, и обедов, «плавно переходящих в ужины». А как было иначе, если число приглашенных доходило до 200 человек, и многие, очень многие любили не только вкусно покушать, но и вкусно высказаться. Взять, к примеру, Сибирские вечера середины восьмидесятых годов: перед первым бокалом шампанского Вагин обязательно излагал свои мысли о задачах сибирской интеллигенции. Затем Писарев рассуждал о Сибири-колонии, что естественно, сопровождалось репликами и тостами. А на очереди был Птицын с речью о судебной и земской реформе, и эту речь тоже щедро поливали шампанским, думая, что же будет на десерт. Немало легенд сложено об обедах иркутских «миллионщиков», только как не заметить, что роскошью и изяществом отличались не застолья наживавших капитал коммерсантов, а их наследников, познавших уже прелести праздничной стороны жизни. К примеру, зять миллионера Базанова, камергер Императорского двора Сиверс был известен застольями, для которых в 1885 году заказал в Петербурге сервиз весом в 70 пудов. Самым «обеденным» годом иркутской истории стал, кажется, 1895-й. К этому времени город не просто оправился от пожара, но и принял вполне европейский вид. Стараниями городского головы Владимира Платоновича Сукачёва центральную часть вычистили, освободили от пьяных извозчиков и пассажиров; в соседстве с зеркальными витринами магазинов появились вывески фешенебельных ресторанов, где отбирались и блюда для парадных обедов в Общественном собрании. В 1895 году последовала целая серия «железнодорожных обедов», устраиваемых городом в честь чинов министерства путей сообщения. Их сценарии тщательно продумывались, каждый из приветственных тостов был продолжением предыдущего и подводил к мысли считаться с интересами такого города как Иркутск. В ответных речах их Высокопревосходительства обещали «содействовать», а товарищ министра путей сообщения прямо заявил, что «выраженное городом ходатайство об устройстве вокзала возможно ближе к Иркутску будет принято во внимание». Когда позже принимали самого министра, князя Хилкова, в основу обеденной «концепции» заложили мысль, что он — первый министр, посетивший Сибирь, и это даёт повод связывать с ним большие надежды (он их, кстати, совершенно оправдал). В 1895 году через Иркутск проходили батареи Забайкальского дивизиона, и офицерам предлагали обед в Общественном собрании, а для низших чинов устраивали столы прямо на центральной площади города. А вскоре через Иркутск прошли два линейных батальона, и местные резервисты дали им обед в Офицерском собрании. В том же 1895 году осветили и первую в Сибири детскую больницу, устроенную по последнему слову науки на деньги наследников Базановых. Круг приглашённых на обед был узок (начальник края, губернатор, головка городского самоуправления), меню кратко, а разговоры деловиты. По похожему, сдержанному сценарию открывали и родовспомогательное отделение при Базановском воспитательном доме, что, конечно же, не случайно: оба проекта были благотворительными, и застолье полагалось здесь чисто символическое. Вообще, значимость обеда определялась количеством не столько блюд, сколько экипажей у подъезда. А также и прелюдией к обеду. В Иркутске, по праву гордившемся общественными проектами, именитым особам первым делом показывали музей Географического общества, Сиропитательный дом, Техническое училище, Девичий институт, Базановский воспитательный дом, Хаминовские гимназии — то есть, всё рождённое без усилий со стороны государства. И лишь после этого изумлённого гостя усаживали за стол. Прямым путём через апокалипсис Эта июльская ночь выпала бессонной для генерал-майора Хлыновского, начальника санитарно-эвакуационной части армейского тыла: в начале третьего загудел телефон, и Михаил Ильич, на ходу одеваясь, спустился во двор. На первом, хозяйском этаже тоже проснулись: слышно было, как упал отодвигаемый стол, донеслись сонные голоса. Михаил Ильич поднялся по стоящей наготове лесенке и перерезал провод. Телефонный вопрос считался главным при отдаче квартиры в наём, и домовладельцы первым делом выясняли, «не абонатор ли господин». То есть не испортит ли он стены проводами и не будет ли будить по ночам. В самом деле: на линии то и дело случались поломки, и нестерпимый гул был слышен в целом квартале. Спустившись с лесенки, Михаил Ильич с большим облегчением прошёлся по двору. Ночь была звёздной, а месяц похож на обмазанный сливками круасан. Правда, он укрылся за высокой трубой, и генерал не сразу обнаружил его. Из будки, наполовину выступавшей на улицу, донёсся осторожный храп караульного — и генерал— майор тоже невольно зевнул. И пошёл уж наверх, когда с дальнего конца улицы донеслось: «Убью! Покалечу!», а в ближнем конце послышался топот, и несколько экипажей со свистом и гиканьем пронеслись мимо. Караульный перестал храпеть, но из будки не вышел. Потом всё стихло, погружаясь в предутренний сон, а вот генерал окончательно, совершенно проснулся. Сев на узенькую скамейку, он откинулся на большое, старое дерево. Со дня на день нужно было ожидать сообщения из Портсмута о заключении мира с Японией. Телеграфу в Сибири до сих пор не привыкли доверять, и на этот раз, верно, будут сомнения, до той самой поры, пока не появятся газеты с официальным сообщением. Ещё недели через две из Харбина начнут прибывать пустые санитарные поезда, походные кухни, цейхгаузы — на расформирование. Засуетятся железнодорожники, присланные в Сибирь на время войны, особенно те, что успели уже получить повышение; полетят запросы: подтвердятся ли новые должности по возвращении? Пока же на Большой мандаринской дороге враждующие отряды десятками оставляют убитых, русские войска отступают, не имея чем прикрыть тыл, а японцы грозят осадой Владивостока. В то же время в петербургских гостиных рассуждают о падении курса российских ценных бумаг, газеты пестреют хроникой покушений на представителей властей, и даже официальные издания открыли постоянную рубрику «Наша внутренняя смута». Она теперь вышла на авансцену, ею озабочены государственные мужи, а вовсе не тем, что на Большой мандаринской дороге враждующие отряды десятками оставляют убитых. И даже когда придёт туда запоздавшая весть о мире, инерция войны будет долго оставаться ещё, и погружённые в эшелоны солдатики повезут её дальше, на запад. И на какой-нибудь 703 версте, на перегоне товарный поезд пройдёт на закрытый семафор и столкнётся с воинским поездом, калеча нижних чинов, разбивая вагоны с лошадьми, уцелевшими в боях. А в столицу уйдёт бодрый рапорт, что движение было восстановлено быстро, и потери незначительны. Месяца три назад газеты радостно сообщили, что поклонникам Собинова больше не придётся подавать петиции об избавлении певца от военной службы: его зачислили капельмейстером в один из запасных батальонов на западе России, и Минск уже в ожидании новых концертов. Супруга Зинаида Григорьевна сказала тогда, что, должно быть, это и правильно, и Михаил Ильич не возразил, но всё же он предпочтёт поклониться не тенору Собинову, а находящемуся на фронте басу Горяинову. И всем тем, для кого он возводит сейчас под Иркутском госпитали, с платформами, разъездами, автономным водопроводом и электричеством, служебными квартирами для персонала. Он и место выбрал сам (хоть, конечно, консультировался с серьёзными инженерами), выписал квалифицированных рабочих из Московской и Нижегородской губерний, заложил образцовую госпитальную кузню. Работы идут теперь полным ходом, хоть ясно, что их завершение придётся уже на окончание войны. И Михаил Ильич сейчас уже принялся хлопотать о передаче своих благоустроенных госпиталей переселенческому управлению. Эту мысль предусмотрительно подала Зинаида Григорьевна. Сама она занималась теперь устройством образцовой прачечной при детском приюте — вместе с другими дамами из Благотворительного общества. — По нашим расчётам, она способна обеспечить сирот необходимыми средствами, — рассказывала генеральша. — В Иркутске ведь до сих пор большая нужда в хороших прачечных. Отчего-то никто из обывателей, даже и вскладчину не берётся за столь прибыльное дело. Пробовали японцы, но ты ведь помнишь, что настоящей их целью была вовсе не стирка белья, а сбор информации для армейской разведки. «Одесским прачечным» пришёлся не по вкусу наш климат, но, может быть, это и к лучшему... — Боюсь, китайцы составят вам серьёзную конкуренцию. — Я тоже опасалась сначала. Но всё же решила убедиться и отдала бельё к Тунхошину. А вот и результат: твои новые сорочки, стоившие 25 рублей, после стирки и крахмаления превратились в совершенную рвань. Зинаида Григорьевна опасалась, что муж огорчится, но Михаил Ильич, выслушав про злоключенья белья, немного задумался и сказал, что, пожалуй, дополнит свою лекцию о восприятии китайцами европейцев. В ожидании жёлтого портфеля В конце июля началась продажа билетов на спектакли итальянской оперной труппы, «имеющие начаться в городском театре 4 августа». Как самая большая изюмина местным меломанам обещан был модный лирико-драматический тенор Деллефорначи. Билеты, естественно, стоили дорого, однако уже в первые дни иркутяне разобрали и ложи и партер. Больше других потратился торговый представитель Нижне-Тагильских заводов Иннокентий Васильевич Совалёв, взявший по два кресла на каждый спектакль. Проживая в Иркутске в наёмной квартире, он привык все важные бумаги (и билеты в оперу в том числе) держать при себе — в большом жёлтом портфеле. Вместе с ним они и исчезли. 29 августа, около 6 часов вечера, подъехав к гостинице «Гранд-Отель», я забыл в пролётке портфель жёлтой кожи. В нём находился прейскурант фирмы «Артура Копеля» и Книга заказов на изделия Нижне-Тагильских заводов. Покорнейше прошу нашедшего этот портфель доставить мне таковой на мою квартиру на Харлампиевской улице, в доме Паршакова. Доставившему будет дано вознаграждение» — такое объявление появилось в «Иркутских губернских ведомостях» на другой уже день. И всем знавшим Совалёва оно показалось странным, потому что Иннокентий Васильевич был очень собран, забывчивостью никогда не страдал, впрочем, как и тягой к спиртному. На самом деле, события развивались так: когда извозчик притормозил у «Гранд-Отеля», Совалёв на мгновение выпустил портфель, чтобы расплатиться — и портфель исчез! Первой мыслью было крикнуть городового, отправиться к полицмейстеру, но Иннокентий Васильевич не сделал ни того, ни другого, а взяв другого извозчика, вернулся к себе на квартиру — успокоиться и подумать. «Билеты в театр уже сегодня разойдутся за полцены: в таком городе как Иркутск опере знают цену. С утратой кредиток из потайного отдела портфеля тоже нужно смириться — найдут, непременно найдут! Но что, действительно, невосполнимо, так это заводская Книга заказов — без неё мне не удержаться на таком хлебном месте. Так как вернуть Книгу? Если обратиться в полицию, то та первым делом насядет на извозчика, спугнёт, и хоть портфель и всплывёт где-нибудь, это будет уже просто портфель. Пустой. А Книга заказов сгниёт на какой-нибудь свалке, если не сгорит в печи». Ещё додумывая, Иннокентий Васильевич набирал уже номер «Иркутских губернских ведомостей». Редактор Виноградов с полуслова ухватил главное: — Освобождаю место на первой полосе. Немедленно выезжайте! По дороге продумайте текст. От Харлампиевской до перекрёстка Амурской и Большой, где размещалась редакция, только пять минут на лошадях, но этого времени Совалёву хватило, чтобы определиться: ни о кредитных, ни о театральных билетах в объявлении не должно быть ни слова; пусть кража предстанет как некая забавная ситуация, из которой можно выйти без риска. После типографии они с Виноградовым ещё выпили чаю. — Заехал я на прошлой неделе в лавку, а там свечи клейменые на прилавке, даже и с наклейкой: «Как собственность Сибирской железной дороги, не могут поступать в частную продажу. Нарушение преследуется по закону». А выходит, что не преследуется! — возмущался Александр Иванович. — И эту вседозволенность прекрасно почувствовали наши юные дарования, обучающиеся за общественный счёт: на завтра назначен концерт стипендиата Суфтина, а он сегодня уехал на заработки в Усолье! — Без Суфтина я ей-ей проживу, а вот итальянцев жалко! Но второй раз билеты покупать не поеду! Весь оставшийся вечер Иннокентий Васильевич убеждал себя, что хвалёный тенор Деллефорначи, в сущности, кот в мешке. Утром, чтобы придать своим мыслям приятное направление, вспомнил о недавней лотерее-аллегри в Интендантском саду, мысленно прогулялся по иллюминированным аллеям, где на каждом углу предлагались восхитительные букеты. Впрочем, самые изысканные цветы были собраны в композициях «Лира» и «Закон». Рядом с ними, в тесном окружении педагогов расположились и юные авторы из колонии малолетних преступников. Творческого полёта им, конечно, было не занимать. Вообще, в криминальном Иркутске то и дело разыгрывались оригинальнейшие сюжеты, преступники искусно гримировались, умело использовали парики. Буфетную Интендантского сада недавно ограбили «артист» и «артистка», искусно выдававшие себя за супругов, а «сторож» Летнего театра исчез, основательно «почистив» театральную гардеробную — надо думать, костюмы очень скоро предстанут на другой «сцене». И тот, кто придёт по его объявлению, тоже, видимо, спрячет лицо под гримом. Что ж, пожалуйста! Пусть будет водевиль с переодеванием. И всё-таки Иннокентий Васильевич удивился, когда после деликатного стука в дверь вошла высокая дама в чёрном платье, маленькой шляпке с вуалью и крохотным ридикюлем в руках. Совалёв решил, что, должно быть, это к соседу, и поднялся показать ей дорогу. Однако дверь опять приоткрылась, и в руках у дамы оказался... жёлтый портфель. Совалёв оцепенел. Дама рассмеялась, передала портфель обратно — Иннокентий Васильевич вскрикнул, бросился доставать портмоне и ещё не спросил, сколько должен, как три сотенные исчезли в складках чёрного платья. Дама вышла, и дверь захлопнулась... Минутою позже рассвирепевший торговый представитель, схватив что-то со стола (после выяснилось, что это был нож для разрезания бумаги) выскочил на лестницу и бросился вниз! Но почти сразу же и упал, споткнувшись о лежавшую на ступеньке Книгу заказов. Вечером, заперев документы в сейф, Совалёв отправился к Виноградову. Александр Иванович слушал весьма сочувственно, но под конец всё-таки рассмеялся: — В сущности, Вам повезло — мирные попались «артисты». Да и Вы, не в пример многим, повели себя очень умно. То есть, спокойно и, сколько возможно, доброжелательно. — На самом-то деле, я зол. Только теперь я почувствовал, насколько зол. И мне хотелось бы всё-таки поквитаться. Но как? — Ну, в таком деле я Вам не советчик! — А вот что: навещу-ка я Григория Борисовича Патушинского! С присяжным поверенным Патушинским Совалёв сблизился минувшей зимой, когда местное общество усердно заготовляло для фронта мороженые щи, пельмени и бульоны. Кто-то давал деньги на продукты, кто-то занимался отправкой готовых блюд на Дальний Восток, но в этой компании собрались, безусловно, интереснейшие персоны. И всё же самым неординарным Совалёву показался именно Патушинский. Узнав, когда у него ближайший приём в юридической консультации, Совалёв подъехал и невольно стал свидетелем занимательной сцены: бедный татарин с двумя дочерьми рассказывал, как богаты они были прежде, а как доказательство демонстрировал старинный перстень с драгоценным камнем. Он признался, что хотел бы подарить этот перстень цесаревичу и просил объяснить ему, «как это сделать по закону». — Но ведь перстень можно продать и выручить за него хорошую сумму! — вмешался Совалёв. — Разве деньги будут лишними Вашим дочерям? — Ай, милый человек, — отвечал татарин, — мне сегодня приснилась звезда хвостатая — комета называется. Голубая такая, размером с большую фуражку. Ты представляешь: в мою сторону прокатилась — и стало светло-светло! А ты говоришь: «продай»... Церковная демократия Отпуск в Европейскую Россию был задуман архимандритом Никоном как образовательная экскурсия на Афон с лучшими из воспитанников иркутской семинарии. Во время путешествия все планировали вести дневники, чтобы после издать их под общей обложкой. Деньги на дорогу ректор рассчитывал заработать своими лекциями в Общественном собрании, и наверное, заработал бы, но Петербург запретил брать студентов — из-за волнений столичной учащейся молодёжи. Намеченный изначально маршрут, таким образом, изменился, и архимандрит решил навестить своих близких, погулять по знакомым с детства местам. Но недели через две уже он почувствовал себя удручённым. Здесь, в центре России нельзя было не видеть уже, что власть в панике отступает, всё вокруг в возбуждённом состоянии, странной смеси отчаяния и эйфории. На вокзале в Томске, выйдя из поезда, он увидел, как дама с ребёнком и большим багажом упрашивала извозчика подвезти на соседнюю улицу. Возница ломался, требовал два рубля, «потому как на резиновых шинах». Ректор вступился за даму — и извозчик едва не смял его вместе с несчастной пассажиркой и мальчиком. И умчался, оставив «на поле боя» раздавленный чемодан и перевёрнутую корзину. От Томска соседкой по купе была барышня, без умолку болтавшая об эмансипации и революции. Послушав её, ректор вынул из сака номер «Киевлянина» с фельетоном «Письмо одной прогрессивной девицы другой», начинавшееся ироничной картинкой: «Деревья стояли на страже гражданской свободы, птицы пели «Марсельезу», а ветер, уважая неприкосновенность личности, дул в противоположную сторону. Мы говорили речи, били стёкла». Заканчивалось «Письмо» «революционным пожатием прогрессивно настроенной руки». Девица прочла, ни разу не улыбнувшись, и... попросила подарить ей газету. Расстроившись, архимандрит вышел в коридор и долго вглядывался в окно, пока мысли его не приняли новое направление. Он думал об «Истории иркутской семинарии», на издание которой архиепископом обещаны 800 рублей. А также о том, как бы в этом году уже поднять жалование эконому, хотя бы и на 15 рублей. Ведь если эконом расстарается, то и на сахар семинаристам у епархии не придётся просить, а на сахар надобно никак не менее 484 рублей в год. Епархиальное управление против этого не возражает, но всякий раз, когда дело доходит до сахара, архимандриту напоминают о ремонте архиерейского дома (тысяч на 45, не менее), о строительстве нового склада для свечного завода, а также и о том, что «семинария испросила ведь уже 200 рублей для малоимущих воспитанников». Двумястами рублями, конечно, не обойтись, но они могли бы стать почином, остальное же он заработает сам. Прошлогодние публичные лекции в паре с протоиереем Головщиковым дали очень обнадёживающий результат, и теперь архимандрит разрабатывал новую тему — о «микробах» революции. Кстати, в иркутской семинарии им до сих пор удавалось успешно противостоять. В прошлом сентябре, например, он пригласил в свою келью педагогов и старших воспитанников — и просто, по-домашнему, попросил поделиться соображениями о работе воскресной школы. Выпускник Рекославский, набрав воздуха, заявил, что если уж школу все называют образцовой, то обучаться в ней нужно разрешить каждому, независимо от вероисповедания. И первым помощником ректора по воскресной школе должен быть непременно студент! — Но тогда и преподавать в воскресной школе должны, главным образом, студенты, — развил его мысль архимандрит. И скоро все мысли воспитанников переключились на сбор книг для народной библиотечки, подготовку «Утра здорового смеха», «Дня знакомства с Кореей и Японией»... Идеи воплощались одна за другой, младшеклассники организовали хор, старшеклассники создали оркестр... «Иркутские губернские ведомости» с удивлением обнаружили, что на воскресных занятиях при семинарии «места все заняты, многие и стоят. По предложению студентов руководство ведёт переговоры об открытии второй учебной площадки — в Преображенской церковно-приходской школе». По субботам архимандрит предложил проводить философские дискуссии, а для «затравки» по каждой теме представлять реферат. Первым вызвался шестиклассник Владимир Марков, представивший «Мои чувствования по поводу слов Некрасова «Суждены нам благие порывы, да свершить ничего не дано». Андрей Кирножицкий проанализировал умонастроения гимназистов в канун реформы министра Д.Толстого. А Иннокентий Иванов поделился мыслями на тему «Духовенство и интеллигенция: их борьба между собою, и отношение к этой борьбе семинаристов». Ну, и так далее. Начинались дискуссии в 8 часов вечера, а заканчивались не ранее 11-30, но и, расходясь, ученики продолжали спорить. Архимандрит всё время обсуждений деликатно молчал и лишь в самом конце позволял скромное резюме. Эти дискуссии местная пресса окрестила философскими вечерами, и действительно: планка их поднималась довольно высоко: обсуждался отрывок из «Пролегоменов о всякой будущей метафизике» И.Канта, представлялся опыт самостоятельного решения богословско-философского вопроса о Боге, анализировался «Возможно-истинный дух нашей жизни и наших занятий». На этом фоне и педагоги семинарии были вынуждены начать в ноябре 1904 года «Самообразовательные вечера». А их публичные выступления позволили собрать солидную сумму для раненых и для иркутской Детской площадки. Семинария, не отгороженная от города, тем не менее оставалась государством в государстве, и типичные язвы военного времени не разъедали её, напротив, она всюду распространяла здоровый дух. И архиепископ, высокопреосвященный Тихон ничуть не пенял архимандриту Никону за живые и современные формы работы. Мало того, он решил передать семинарии издание «Иркутских епархиальных ведомостей», которые находил теперь слишком сухими и скучными. И снова в келье архимандрита собралось семинарское «вече». И Никон невольно отмечал повзрослевшие лица, новую интонацию, уже и без тени фрондирования. А месяц спустя господа семинаристы решали, можно ли разместить на их территории раненых. Параллельно над этим задумались и в иркутской управе, и в клубе Общества приказчиков; но если там вздыхали и спорили, сколько с армии взять за аренду, то здесь просто решили уступить раненым три строения из четырёх. Опыт церковной демократии был явлен в Иркутске ещё в феврале 1890 года, когда архиепископ Вениамин вызвал одного их хлыстов на открытую дискуссию о таинстве святого крещения. О ней было всюду и заранее оповещено, местом выбрана церковь Благовещения, в самом центре Иркутска — не удивительно, что собралась многочисленная публика, с изумлением внимавшая происходящему. Иркутское духовенство изначально, то есть со времени основания острога было главной связующей. Разгулы стихий, особенно страшные в первом столетии истории города, беззащитность пред неограниченной властью воевод собирали иркутян вокруг церкви. Позже, когда в городе заработал механизм самоуправления, духовенство как бы отступило в тень, дав дорогу просвещённым купцам-меценатам, коммерсантам-государственникам. Но и тогда добрые начинания подвигались наставлением пастырей, освещались молебном; избранный городской голова вместе с гласными рано утром первого января приходили в кафедральный собор на благословение, и лишь после этого начиналось настоящее их служение. К началу двадцатого века ситуация в Иркутске изменилась: часть купеческих родов пресеклась, часть коммерсантов-меценатов переехала в Европейскую Россию, и город наводнили предприниматели нового толка, куда более мелкие и разобщённые. Иркутск купеческий перестал быть центром притяжения новых идей — и духовенство начало постепенно выходить из тени. Слишком поздно, как показали последующие события. Предчувствие перемен День 1 августа 1905 года пришёлся на понедельник, то есть, стал обычным рабочим днём. Достаточно душным, и редактор «Иркутских губернских ведомостей» в четыре часа пополудни отправился в Интендантский сад, полагая, что там, в летней резиденции Общественного собрания и найдёт всех нужных персон. К тому же в тени деревьев, после стаканчика прохладительного с тарталеткой к отцам города возвращалась обычная живость мысли. В какие-то полчаса всё было обговорено и решено, и редактор решил прогуляться по саду, подумать. Вот уже на два номера Александр Иванович задерживал одну неприятную весть — об отъезде из Иркутска Сипягина. Главный тюремный инспектор Иркутской губернии и завзятый театрал Александр Петрович Сипягин отличался редкою даже по европейским меркам прогрессивностью взглядов. Но в отличие от иных либералов не любил рассуждений, а просто четверть века изо дня в день строил свою «каторжную республику», используя недюжинные организаторские способности и немалую власть. Сначала над ним добродушно посмеивались, потом изумлялись, а под конец решили, что уж, верно, целовал его сам господь, посылая в Сибирь. За двадцать с лишком лет Сипягин стал восприниматься как совершенная принадлежность Иркутской губернии. Никто и не думал о том, что однажды Александр Петрович может уехать, заболеть, умереть. Между тем, к 1905 году за ним числился целый список болезней, и обычный отпуск на курорте не помог. Вернувшись, он решился подать прошение об отставке. Ответ затянулся на несколько месяцев, и никто в это время не догадался о сипягинском недомогании — окунаясь в дела, он словно бы брал здоровье в долг у оставшихся (немногих) лет. Поэтому высочайший приказ о его увольнении для многих стал большой неожиданностью. Уже не первый год газета пестрела объявлениями о спешной продаже усадеб, любовно обустроенных, окружённых садиками, наполненных красивой мебелью, удобными экипажами и породистыми лошадьми, но при этом не возникало ощущения пустоты — и вот теперь, с отъездом Александра Петровича, оно появилось. Виноградов думал о том, что и самые лучшие из приезжих чиновников имеют непростительный недостаток: рано или поздно, они всё-таки покидают Иркутск, обрекая тем самым все свои начинания. Вероятно, поэтому и спешат, прививая свои экзотические проекты. Но в суровой атмосфере Сибири почти все они вскорости гибнут. Гораздо лучше, медленно, но верно, прорастают простые, понятные всем идеи. В августе 1905 года отмечало двадцатилетие Иркутское добровольное пожарное общество, начинавшееся как небольшая дружина с сугубо практической и достаточно узкой целью. В ту пору городу оставлялись миллионные состояния, местным обществом обсуждались серьёзнейшие проекты, и в общей атмосфере добрых дел добровольцы-пожарники поднимались и крепли. К августу 1905 года это было уже солидное общество с собственным оркестром и почти готовым каменным домом-депо. Оставалось добыть некоторую сумму на отделку, и её, как обычно, решили собрать общими усилиями, организовав гуляние с лотереей-аллегри в Интендантском саду. Группа молодых людей взялась устроить светящиеся фонтаны и фейерверк. Один из старейших членов Общества заказал роскошнейшую витрину для призов. Жена коммерсанта С.Н. Родионова вызвалась дать цветы из собственной оранжереи и сама стала их продавать, выручив в пользу общества более ста рублей. Программа гуляния оказалась такой изысканной, сад так уютно обставили и иллюминировали, что публика с удовольствием опустошила собственные карманы. Горожане оттого ещё так веселились, что с начала августа всё более ощущалось скорое окончание войны. На 1905 год в Иркутской области было назначено к призыву 1398 новобранцев, но их участь не казалась уже такой мрачной. Но самую большую надежду подавал курс ценных бумаг, сильно упавших с начала войны, а теперь поднимавшихся. Государственная 4% рента, 26 июля составлявшая 85 рублей, с начала августа поднялась до 91 рубля. Билеты первого внутреннего займа 1864 года, продававшиеся по 415 рублей, теперь стоили 449 рублей, а билеты второго займа 1866 года поднялись с 313 до 350 рублей. Подскочили и закладные государственного земельного банка — едва лишь газеты сообщили о начале мирных переговоров. Правда, на Большой мандаринской дороге японцы продолжали свои нападения. А российская военная машина, по-прежнему, заправлялась пьяной мужицкой деньгой. Недавно редактор «Иркутских губернских ведомостей» подсчитал, что лишь за первую половину 1905 года в Иркутской губернии и Якутской области было выпито 422274 вёдер казённого вина на 3697893 рублей. Причём, якутская доля была очень незначительна (260635 рублей), иркутский же склад отпустил горькой на 1783567 рублей. Из уездов самыми пьяными вышли Балаганский и Тулуновский, а также Бодайбинский приисковый район. Светлым августовским вечером хмельные иркутские извозчики напали на обывателя, мирно шедшего по улице Графа Кутайсова, отобрали 20 рублей и избили. Другие пьяные возницы устроили гонки на Нижне-Амурской и едва не смяли прохожих. Отдавая в набор полицейскую хронику, Виноградов думал о том, что скоро в Иркутск прибудет ещё и первая партия ссыльных сахалинцев — больших ценителей чужой собственности. Из Сретенска отбыло их 700 человек, и какая-то часть, конечно, осядет в Чите, Верхнеудинске, сотня-другая проследует дальше на запад, но и в этом случае на Иркутск останется человек 60-70. Большая часть их к зиме перейдёт на привычные тюремные хлеба, но прежде город переживёт тяжёлую осень. От неприятных мыслей редактора отвлекла небольшая заметка редакционного хроникёра: «14 августа, в восьмом часу вечера каланчист второй части заметил, что в доме Прокудиной на Сенной площади выбрасывают мебель и вещи. Предполагая внутренний пожар, бдительный каланчист прозвонил тревогу. Выехавшая к дому Прокудиной команда пожара не нашла, но стала свидетельницей курьёзной ссоры двух женщин, одна из которых и ввела каланчиста в заблуждение, выбрасывая на улицу мебель соседки». Да, на Сенной площади война только ещё разгоралась. Ищем занятий. Согласны в отъезд Поздно вечером 29 августа 1905 года в аптеку Жарниковой на Большой проникли воры и вынесли американский кассовый аппарат. Очень тяжёлый, поэтому, пройдя сотню метров, злоумышленники остановились. И тут же, присев на корточки, вскрыли кассу. Но из всей дневной выручки обнаружили только 8 рублей. Когда рассвело, брошенный аппарат увидел квартальный Семёнов. Хозяйка аптеки, узнав о случившемся, поначалу расстроилась, но после решила, что ей даже и повезло: воры попали аккуратные, не сломали ни одного замка и кассу не повредили. Квартальный Семёнов зашёл в часть написать рапорт о ночном происшествии, но неожиданно застрял на привычной фразе: «Неизвестные ЩУ злоумышленники скрылись в неизвестном направлении». Может быть, причиной был отпуск, начинавшийся завтра, может, просто хотелось спать, только рапорт не складывался никак. Семёнов вышел в коридор, к распахнутому окну и увидел удалявшийся клин журавлей. Их отлёт в августе предвещал раннюю и холодную зиму — Фёдор Киприянович поморщился и вернулся к столу. «Неизвестные злоумышленники...» — написал он, отчётливо представляя бездельников, день-деньской толкущихся на базарах и снимающих «пробу» в съестных рядах. Любой из них прошлой ночью мог забраться в аптеку Жарниковой, а сейчас уже, верно, пропивал злополучные эти 8 рублей. Часам к трём проспится, дойдёт до благотворительной столовой и, подбросив оставшийся пятачок, будет требовать накормить «во всё удовольствие». И ругаться, что щи без добавки, а на второе — только каша. Когда-то, ещё в самом начале службы Семёнов слышал, как старейший член Благотворительного общества возмущался профессиональным нищенством и настойчиво предлагал приходским попечительствам заводить на пустырях огороды для безработных. Он об этом потом и в газетах писал, но те давно пожелтели уж, а огороды для нищенствующих так и не завели. Зато в центре города «прописался» профессиональный нищий по прозвищу Вознесеньюшка. Свой «дело» он называет «новой отраслью промышленности», и действительно: за день сидения в жалкой позе набирает месячное жалование чиновника средней руки и ни в чём себе не отказывает, имеет даже доходный дом. Это ни для кого, кажется, и не тайна, но ведь подают же! Как и ораве других, маленьких «вознесеньюшек». Вечерами, обходя свой квартал, Семёнов видит, как грязные эти мальчишки, побросав костыли, разбегались по магазинам — менять мелочь на серебро, и по всему выходит, что наглый попрошайка собирает куда больше, чем зарабатывает он, квартальный. Как-то, зная, что братьям Яблоковским нужны ученики красильщиков, Фёдор Киприянович отвёл уличного мальчишку в их мастерскую и поручился за него. Неделю спустя Яблоковский-старший зашёл к нему: — Вот так дела, Фёдор Киприянович: паренёк-то оставил мне денег, чтобы только я его не искал. А сегодня мне сват говорит, будто видел его на Якутской — сидит со «сломанной рукой». За восемнадцать лет службы Семёнов раза три «выпрягался» и, схватив «нищего» за грудки, остервенело тряс: «Почему не работаешь, сволочь?» «Калека» картинно округлял глаза и беспомощно разводил руками: «Так то ж работы нет, Фёдор Киприянович!» В иркутских газетах время от времени появлялись отчаянные объявления типа: «Приезжий молодой одинокий счетовод, страшно нуждаясь, убедительно просит дать какую-нибудь работу, до самой чёрной включительно». Или: «В виду безысходной нужды убедительно прошу каких-нибудь занятий. Знаю конторское и торговое дело. Могу быть фельдшером при заводской или приисковой лечебнице. Согласен и в сторожа — только дайте службу!» И всё это были пьющие господа, Семёнов распознавал их сразу, по приписке в конце объявления: «Спрашивать после трёх часов дня». Другую группу ищущих занятий составляли солидные господа со специальным образованием, уже послужившие в европейской России, понабравшие опыта, рекомендаций, аттестатов и денег. Сибирь влекла их возможностью большего заработка, и они спокойно, не спеша выбирали, умело торгуясь и предлагая немалый залог в обмен на хорошее место. В уютных номерах «Коммерческого подворья» их посещали поверенные золотопромышленников, а одним августовским утром 1905 года явился господин Штромберг, глава местного управления государственными имуществами. Строго говоря, это был визит вежливости, потому что ничего солидного Штромберг предложить не мог. Ему, взявшемуся за большие подряды на заготовку леса, нужны были рабочие руки, молодые, выносливые и недорогие. С началом войны таких рук совершенно, катастрофически не хватало, и Штромберг даже ездил на вербовку в Уфимскую, Пермскую, Вятскую губернии. Так же и в Черемхово заманивали угольщиков из Донецка, а на строительные площадки под Иркутском выписывали целые артели плотников и столяров из центральной России. В Иркутской телеграфной конторе из 38 вакансий были заняты только пять — хотя неквалифицированный труд разносчиков телеграмм оплачивался 25 рублями в месяц, плюс чаевые. Кризис на рабочие руки был полный, но при этом в большом, оживлённом, густо населённом Иркутске только в 1904 году появились две посреднические конторы — агентство комиссионной конторы «Русь», приискивающее работу интеллигенции, и бюро для найма прислуги. К последнему квартальный Семёнов относился с сомнением, хотя, будучи вдовцом и отцом уже взрослого сына, давно нуждался в кухарке-горничной. Как-то, сидя во дворе после бани, он услышал разговор двух соседок о «кухаркиных курсах», будто бы существующих в Петербурге. Женщины рассказывали, что «учёные, даже профессора» преподают там какое-то «мясоведение», а известные мастерицы обучают починке, кройке, шитью, счетоводству и даже первой медицинской помощи. После чего образованную прислугу предлагают через городские бюро по найму. Семёнов слушал и усмехался, но независимо от того ему начала рисоваться миловидная экономка в чистых комнатах с лёгким духом рыбного пирога. Так прошло несколько недель, и «картинки» стали перемежаться весьма дельными соображениями. К примеру, о том, что война наводнила Иркутск женщинами с Дальнего Востока, и кухарки, получавшие прежде по 8-10 рублей в месяц, теперь соглашаются служить и за 3-4 рубля. Короче, Семёнов не выдержал и на второй день отпуска отправился в бюро по найму прислуги. После разных формальностей к нему прислали женщину лет сорока, по имени Марфа и, в самом деле, миловидную. — Сготовим, что прикажете, — заявила она с порога. Суп? Сварю. Жареное? Нетрудно. Разварное? Умеем. Сладкое? Кисель, ежели угодно, изладим. У нас на прежнем месте барыня сама готовила сладкое. По книжке. А что до жалования, то рублей бы пятнадцать, да к тому же ваш сахар, чай, а к праздникам — подарки. Для своего «дебюта» Марфа выбрала суп. Вышло совсем несъедобно. — Как умеем, так и сделали! Вам бы повара нанять... Э-эх, знала бы — не связалась! — и Марфа, обиженная, ушла, вместе с задатком в пять рублей. Отпуск был, конечно, подпорчен. Но всё же Фёдор Киприянович выспался, починил протекавшую крышу, отремонтировал зимнюю обувь. Да к тому же, наконец-то, ответил сыну на его письмо. Если бы у Семёнова была дочь, то уж он расстарался бы и пустил её по лечебной части — в Иркутске сейчас очень востребованы оспопрививательницы, фельдшерицы, акушерки. Но у Фёдора Киприяновича был сын, неглупый и, можно сказать, образованный, но почти не бывавший в Иркутске. Он звал отца к себе, в центральную Россию — когда выйдет на пенсию. Словно бы на пенсию можно жить. О старости Семёнов впервые задумался в начале прошлого, 1904 года, когда городовому Чепуштапову, подстреленному во время облавы, назначили 120 рублей в год. То есть, на месяц инвалиду пришлось ровно столько, сколько опытный попрошайка набирал в один день! Семья покойного брандмейстера Мякинина получала 25 рублей в месяц, но и это не шло ни в какое сравнение с пособием родственникам умерших учителей. Скажем, семья Рукавицына, преподававшего в Иркутске 12 лет, имела 350 рублей в год правительственной пенсии, 240 рублей от Благотворительного общества и к тому же претендовала на городское пособие. И бывшему губернскому инженеру Штерн фон Гвяздовскому высочайшим распоряжением дали усиленную пенсию — 2000 рублей в год. Фёдор Киприянович соглашался, что надбавки заслуженные; другое огорчало его — что родное полицейское ведомство не удосужилось организовать свою сберегательную или пенсионную кассу, по примеру министерства финансов и министерства путей сообщения. Родственник покойной жены, служивший делопроизводителем на железной дороге, каждый месяц отчислял из жалования известный процент и накопил немалую сумму — 1500 рублей. Встречая Семёнова, он с удовольствием рисовал перспективы пенсионного благоденствия, но чудным августовским вечером 1905 года неожиданно умер. Убеждённый холостяк, он жил с матерью и младшими сёстрами, и после его смерти они начали хлопотать о деньгах. Но вся сумма осталась в сберегательной кассе: оказалось, расчётливый делопроизводитель не вчитался в один из параграфов, гласивший: сбережения могут унаследовать только жена и дети. Сентябрьская молниеносная война 19 сентября 1905 года пришло сообщение об отправке пяти петербургских врачей и десяти фельдшеров в личное распоряжение иркутского генерал-губернатора Кутайсова. Ему же срочно ассигновались 5 тысяч рублей на экстренные расходы. Получив телеграмму, граф Кутайсов немедленно возбудил ходатайство о выделении дополнительных 20 тысяч рублей. И это решительно никого не удивило, ведь сентябрьские телеграфные ленты несли очень тревожные вести о чуме на Китайско-Восточной железной дороге, в том числе на последнем разъезде за станцией Маньчжурия. Требовалось «взять серьёзные меры в видах предупреждения эпидемии в Забайкальской области, Иркутской и Енисейской губерниях». Чумные сводки» самым внимательным образом перечитывались городским санитарным врачом Жбановым. Константин Маркович, бывая в Европейской России и за рубежом, смотрел вокруг взглядом доктора, гласного городской думы — и находил много любопытного в организации санитарного дела. Но, увы, мало что подходило для Иркутска, где до сих пор не было городского водопровода, канализации, специальных санитарных врачей для базаров, учебных заведений и пр. Всё здесь «вертелось на осмотрах, протоколах и обонянии», как писал он в «Иркутских губернских ведомостях». Между тем, население города увеличивалось, и, естественно, возрастали «болезни грязи и тесноты». Как экстренную меру, не требующую больших затрат, доктор Жбанов предлагал устроить амбулатории прямо при квартирах санитарных врачей и увеличить им жалование с 1200 до 2000 рублей в год. В Иркутской городской думе той поры было несколько гласных-докторов, но именно они и не поддержали коллегу, пустившись в ироническую полемику о санитарии вообще. Кончилось тем, что проект Жбанова переправили в Общество врачей Восточной Сибири, где он и был положен под сукно: — Прежде следует получить рекомендации по санитарии всероссийского съезда врачей. Но даже в случае нашего положительного решения проект будет передан из канцелярии Общества его Санитарному совету — для более детального рассмотрения, с дальнейшей передачей на обсуждение думы! Раздосадованный Жбанов обратился в «Иркутские губернские ведомости» и в нескольких номерах разъяснял горожанам и местному самоуправлению сложившуюся ситуацию и вероятные выходы из неё. Момент был выбран удачно: через город активно передвигались войска, и, значит, возрастала угроза эпидемий. А вся история Иркутска показывала, что только под страхом холеры и чумы городское управление теряло охоту к дискуссиям и проявляло несвойственную организованность: на ближних и дальних подступах к городу оборудовало заразные бараки, в считанные дни нанимало санитарных надзирателей, осматривало каждый дом, разбивало город на участки, за каждый из которых отвечал совет попечителей. Угроза эпидемий развязывала и руки генерал-губернатору: штрафы в случае неуплаты заменялись арестом и, что самое важное, не различали богатых и бедных, «первых» и «последних», подданных Российской империи и иностранцев. Семь-восемь месяцев «штрафной кампании» приводили к тому, что город вычищался, дышать становилось легче, гулять — приятнее. Но едва лишь угроза эпидемий спадала, едва губернатор терял право на серьёзное наказание, горожане возвращались к привычному образу жизни. И «Иркутские губернские ведомости» в отчаянии взывали: «В центре, напротив санитарной станции свалены нечистоты». «На набережной Ангары, рядом с домом генерал-губернатора, помои выливаются прямо во двор и с наступлением тепла станут источником всякого зловония и заразы». В сентябре 1905-го начали приходить телеграммы о начале чумы в Маньчжурии. По железной дороге болезнь за неделю могла добраться до Иркутска, и «Губернские ведомости» забили тревогу: «Страшные гости в виде чумы и холеры, без сомнения, требуют соблюдения особых санитарных мер. Трудно верится, что господа домохозяева без постороннего воздействия приведут свои дома в надлежащий вид, и было бы желательно, чтобы санитарная комиссия напомнила о своём существовании». Срочным приказом министра путей сообщения за станцией Маньчжурия и перед станцией Мысовая были устроены врачебно-наблюдательные пункты, с пятидневным карантином и дезинфекцией заражённых предметов. Тринадцать станций Забайкальской железной дороги приспособили для санитарной обработки поездов. Кроме того, каждый пассажирский поезд сопровождался теперь врачом и двумя фельдшерами, которым за риск положили солидное дополнительное вознаграждение. Словом, меры взяты были самые скорые и решительные; все нужные узлы завязались, все механизмы закрутились в нужную сторону, все приказы исполнялись стремительно! Даже мелкие канцелярские чины, обычно пугливые и тяжёлые на подъём, не задержали ни одной «чумной» бумаги. Хотя, расходясь по домам, «особо осведомлённые» и говорили, что, возможно, старания и излишни. 25 сентября врачебная экспедиция, объехавшая все окрестности станции Маньчжурия, не обнаружила новых «чумных», а последние из заболевших явно выздоравливали. На всякий случай снарядили ещё две экспедиции. «Страшная гостья» не добралась Иркутска, и за этим, конечно, угадывалась удача, столь редко посещавшая русских в последние полтора года. Вся хроника войны с Японией состояла из отступлений, но в сентябрьской «чумной войне» мы сразу перешли в наступление — и добились молниеносной победы. В войну с чумой была вложена и горечь только что пережитого поражения; недоумение, разочарование, раздражение после заключения позорного мира — всё это в сентябре 1905 года соединилось, переплавилось и дало неплохой результат. Генерал-губернатору Кутайсову три недели войны с чумой показались достаточно долгими. Доктор Жбанов, напротив, считал, что «сеанс запугивания эпидемией оказался слишком кратким, чтобы двинуть санитарное дело вперёд». В 1900 году в Иркутске открылось отделение Общества борьбы с заразными болезнями, и здесь можно было встретить немало энергичных людей; но часто они были бессильны против бесшабашности обывателя и давно уж укоренившейся привычки к неопрятному быту. В начале 1904 года в Киренском уезде началась эпидемия оспы, а спустя два месяца тревогу забили и в губернском центре. Характерно, что заболели не приезжие, а иркутяне, к услугам которых были многочисленные оспопрививатели. Вообще, к началу двадцатого века оспа не должна была представлять серьёзной угрозы; это прежде целые города вымирали, не сопротивляясь страшной и таинственной болезни, теперь же её умели не только лечить, но и предупреждать прививками. Ещё с восемнадцатого века в Сибири открывались казённые оспенные дома; что до Иркутска, то здесь ситуация развивалась особенно благополучно: бесплатное оспопрививание проводилось при Базановском воспитательном доме, в местной прессе размещали объявления частные оспопрививатели и оспопрививательницы, и в начале двадцатого века только очень ленивым могла угрожать эта уродующая болезнь. Но, увы, таковых насчитывалось немало; даже в роскошных особняках встречались барышни и дамы, вынужденные прятаться при появлении гостей. Что уж говорить о скарлатине и дифтерите, против которых в ту пору ещё не было настоящего оружия! В зиму 1904 года Иркутский девичий институт, похоронив двух воспитанниц, вынужден был ходатайствовать о прекращении всех учебных занятий — вплоть до осени. Бархатный колпак для забастовки День 26 сентября 1905 года показался графине Кутайсовой, супруге генерал-губернатора, самым долгим за два года пребывания в Иркутске. Дамы её кружка, обещавшие съехаться в 10 утра, собрались лишь к одиннадцати, и с первых же фраз разговор пошёл не по тому руслу. Ольга Васильевна хотела представить свои планы помощи инвалидам, возвращающимся с войны, но дамы с порога начали говорить о закрытии, «в виду вредного направления», местного педагогического Общества. Хотя им положительно было известно, что граф Кутайсов касательства к этому не имел. Прежде встречи в гостиной супруги начальника края пролетали незаметно, а сегодняшний разговор всем показался мучительно долгим. Когда же гостьи уехали, Кутайсова с удивлением обнаружила, что на часах нет и половины двенадцатого. И подумала с беспокойством, что в какие-то полчаса эти дамы, к которым она привязалась, отдалились стремительно, а возможно, и безвозвратно. Чувство острого одиночества охватило Ольгу Васильевну, и она немедля отправилась к мужу, на главную, представительскую половину дома генерал-губернатора. По неписанным правилам графиня не появлялась там в служебные часы, но сегодня был особый, исключительный случай. С началом всеобщей забастовки дом генерал-губернатора сильно переменился: коридоры, обычно полупустые, заполнили юнкера, всюду было накурено, из приёмной слышались непривычно громкие голоса. Ольгу Васильевну предупредили, что у начальника края сейчас редактор оппозиционного «Восточного обозрения», и она беззвучно открыла дверь, чуть отодвинула портьеру. Павел Ипполитович стоял у окна, изредка взглядывая на редактора, и лицо его сохраняло требуемое, то есть как бы растерянное выражение. Графиня осторожно закрыла дверь, думая о том, что в министерстве внутренних дел не ошиблось, отправив на иркутское генерал-губернаторство природного дипломата и лицедея. Она знала, что граф очень не любил «политических», считая их более опасными, чем уголовники, но он видел в них большую и всё возрастающую силу, с которой уже нельзя не считаться. В Иркутске оппозицию составляли не только многочисленные ссыльные социал-демократы и эсеры, но и беспартийные адвокаты, успешные коммерсанты. «Общее умопомрачение» (как называл революцию граф) создало совершенно новую ситуацию, в которой нельзя уже было жать и давить, но ещё можно было играть и выигрывать. К ссыльному Попову, редактору популярной газеты «Восточное обозрение» граф легко нашёл ключик, и «непримиримый Иван Иванович» подолгу пил кофе в генерал-губернаторском кабинете, давая советы и веря, что имеет на графа большое влияние. Павел Ипполитович охотно подыгрывал и был рад возможности через Попова определять сегодняшний политический градус. И прогнозировать завтрашний. С января 1905 года в Иркутске время от времени раздувались революционные пузыри. Присяжные поверенные осуждали режим в комфортной обстановке банкетов: их блестящие речи в защиту гражданских свобод превращали застолья в хорошо сервированные митинги. Гимназисты с галёрки городского театра распевали «Марсельезу», заглушая артистов; ссыльные социал-демократы и эсеры устраивали демонстрации, митинги. Но до серьёзных, вооружённых столкновений не дошло, пар медленно выпускался, градус постепенно падал, и за всё время с января по октябрь не случилось ни одного выстрела, ни одного политического ареста. Иркутску удалось избежать бойни, какая произошла в Томске, Казани, Красноярске. Конечно, избежать революции вовсе было нельзя, но доходя до Иркутска, волнения явно успокаивались — словно бы попадали под невидимый бархатный колпак. К началу октября многие из иркутских студентов возвратились к родителям: и в Петербурге, и в Москве, и в Казани, и в Киеве аудитории заняли революционеры, превратившие лекции в митинги. Это «протестующее большинство», как и в январе 1905-го, требовало прекращения занятий, а встречая сопротивление, ломало мебель, окна, двери. К середине октября появилась надежда на возобновление лекций, но возникла другая угроза — всеобщей забастовки железнодорожников. Дошло до того, что министр путей сообщения после двухчасовых переговоров с машинистами сам повёл поезд в Ригу. А начальник Забайкальской дороги, пытаясь удержать забастовку, предложил дополнительные выходные для работников мастерских. В них вошли и 32 «табельных праздника», и многочисленные «царские дни», и «местные праздники», и две недели с 25 декабря по 7 января, и «промежуточные дни», выпадающие между праздниками. Читая об этом в «Иркутских губернских ведомостях», Ольга Васильевна со страхом думала, как же можно будет теперь обеспечить исправность вагонов и паровозов. Но граф объяснил, что «всё это — политика», а как будет на самом деле — решится в ближайшие дни, когда либо начнётся, либо нет всеобщая забастовка. Выйдя утром 17 октября на улицы, горожане увидели военных, а так же листки с обращением генерал-губернатора: «Ничтожная группа людей, явно вставших на сторону врагов правительства, призывает население к насилию и уличным беспорядкам. Распуская нелепые, заведомо ложные слухи, эти люди смущают мирных граждан, принуждая их угрозами примкнуть к преступным замыслам. Призываю верноподданных быть твёрдыми и верными принесённой Государю присяге. Если произойдёт уличный беспорядок, он будет подавлен силой оружия, а потому предупреждаю всех мирных жителей не примыкать к толпе, дабы вместе с виновными не пострадали невинные». Многие забастовщики предпочли разойтись по домам, а на следующее утро появилось второе воззвание генерал-губернатора: «17 октября войска не сделали ни одного выстрела, а между тем, в Кузнецовскую больницу доставлено 2 убитых и 15 человек с огнестрельными ранениями. Признаю необходимым вновь предупредить население, чтобы оно воздержалось от прогулок по улицам города. При настоящих обстоятельствах невозможно отвечать за безопасность гуляющих и любопытствующих». Одновременно с этим Кутайсов распорядился окружить театр, Общественное собрание и сходок более не допускать. Главных забастовщиков арестовали, а всем желающим вернуться к работе генерал-губернатор обещал охрану. Местное самоуправление поддержало просьбу начальника края, и 20 октября магазины открылись, банки возобновили операции, типографии запустили станки. 21 октября город принял обычный вид, вышли обе местных газеты, а вечером и театры начали представления. Вся забастовка уложилась менее чем в неделю, но первый день после неё был поразительно тихим: все говорили в полголоса, на опустевших улицах не было даже собак, тоже что-то понявших и «сделавших выводы». Между тем, пошли слухи о принятии Высочайшего Манифеста, и 22 октября генерал-губернатор сделал очередное заявление: «Считаю долгом известить население, что лично я ничего подобного не получал по самой простой причине, что телеграфное сообщение между Санкт-Петербургом и Иркутском не восстановлено. Прошу жителей города не верить никаким слухам, не исходящим из официального источника». Но уже в полдень был получен текст Манифеста, редакции усадили за работу наборщиков и вскоре раздавали уже первые экземпляры собравшимся у типографий горожанам. В три часа дня открылись двери Общественного собрания, и началось обсуждение Манифеста. «Всё время в городе необычайно радостное настроение», — отмечали «Иркутские губернские ведомости». А супруги Кутайсовы в этот вечер смогли, наконец, сесть за общий стол. Граф рассказывал, как нелепо погибли в эти дни почти два десятка горожан: ссыльного Станиловского застрелил пьяный фельдшер в ресторане, где оба отмечали принятие Манифеста; несколько хулиганов наткнулись на отряды милиции, организованные забастовщиками; несколько грабителей попали под пули отряда самообороны магазина С.С.Кальмеера. Братьев Виннер и Павла Файнберга, возвращавшихся с митинга в Управлении железной дороги, убили черносотенцы; но похороны прошли спокойно. И всё-таки у графини Кутайсовой оставался вопрос: почему отряд черносотенцев возглавлял полицейский пристав Щеглов? В ноябре началась общая забастовка почтово-телеграфных служащих, и министр внутренних дел потребовал от иркутского генерал-губернатора самых жёстких мер. Но в ответ на его телеграмму граф Кутайсов заявил: требования забастовщиков, по его личному убеждению, законны и подлежат удовлетворению. После чего отставка начальника края стала неизбежной, и спустя сутки Павел Ипполитович был уволен с поста генерал-губернатора. .Много лет спустя, когда горного инженера Тульчинского спрашивали «А где Вы были во время всеобщей забастовки в Иркутске?», он отвечал: «В Америке». Действительно, в лето 1904 года на Чукотку отправилась экспедиция, в составе которой значились и два известных в Иркутске господина — доктор Кириллов и инженер Тульчинский. Сначала всё шло хорошо, но туманным вечером 30 июля, когда экспедиция находилась в районе бухты Провидения, поднялась большая волна, и судно налетело на подводные скалы. Месяц продолжалась борьба за выживание, сначала в воде, а потом на пустынном, холодном берегу. Наконец, участников экспедиции подобрала американская шхуна и доставила на Аляску. Но прошло ещё несколько недель, прежде чем Тульчинский с Кирилловым смогли сообщить, что живы. А до того в город доходили только короткие сообщения о кораблекрушении. 17 октября, когда волей графа Кутайсова было восстановлено телеграфное сообщение, к жене и дочке Тульчинского пробилась застрявшая весточка. Позже Тульчинский шутил, что кораблекрушение спасло его от участия в забастовке, а возможно, и от шальной, глупой пули. 14 октября 1905 года прекратили работу все службы Управления Забайкальской дороги и станции Иркутск. В тот же день отключили правительственный телеграф и телефон. 15 октября в Иркутске закрылись все магазины, типографии, банки и даже городская управа. Что до учебных заведений, то занятия в них отменила губернская власть — из соображений безопасности. Октябрьская забастовка охватила весь город, но многие присоединялись к ней исключительно под нажимом: отряды железнодорожников ходили по предприятиям и учреждениям, «снимая с работы». Кто-то подчинялся из боязни навлечь гнев забастовщиков, кто-то — из опасения оказаться в изоляции. Что до власти, то генерал-губернатор Кутайсов приказал полиции и войскам сохранять спокойствие, ограничившись охраной оружейных магазинов, правительственных зданий и усиленным патрулированием. Для сходок забастовщики пожелали залы Общественного собрания и городского театра, беспрепятственно получили их и за два дня высказали всё, что хотели и смогли. К17 октября запал кончился — и тотчас же по приказу начальника края единственный на тот момент батальон занял станцию Иркутск и открыл движение! Долгое эхо восточной войны Ветреным утром 3 октября братья Лепендины выскочили из дворика на Кладбищенской и, толкая друг друга, пустились к дому Плотникова, где нынешней осенью занимались ученики Воскресенского училища. Взбежав на крыльцо, старший, Василий, торопливо махнул брату рукой, и за ним сейчас же захлопнулась дверь. Раздался звонок, в окнах замелькали оживлённые лица, потом разом всё успокоилось. А Костя Лепендин ещё долго стоял, прислонившись к стеклу и наблюдая то за учительницей, то за братом, разомлевшим в хорошо натопленной комнате. Косте стало зябко и очень обидно, что не берут его в школьники. Воскресенское училище, для которого был отстроен прекрасный особняк на Амурской, Костю Лепендина попытались определять ещё в 1903 году. Но места тогда не хватило, и учителя пообещали взять на следующий год, так что никто и не расстроился поначалу. Но началась война, и отстоять здание училища от постоя городской думе не удалось. Школьников досрочно распустили на каникулы, а к началу нового учебного года сняли небольшой дом, в котором одновременно могли заниматься только 25 человек, поэтому младшие и средние классы обучались через день. Новых учеников и вовсе набирать перестали, и все четыреста заявлений, поданных в 1904 году, «остались без удовлетворения». После заключения мира у Лепендиных появилась маленькая надежда, но прошёл месяц, другой, а запасных всё не переводили из школьного здания. Волею случая именно на этот год пришёлся столетний юбилей Воскресенского училища. Готовились к нему давно, поднимали исторический материал, показывали, как из маленькой группы всего лишь в 52 человека, ютившейся при гимназии, выросло большое учебное заведение, солидно расположившееся в двухэтажном каменном здании. И вот теперь, словно бы в насмешку, приходилось встречать юбилей в чужих стенах и лишь с 38 учениками. Дума, в раздражении от собственного бессилия, постановила перенести юбилейные торжества. Кстати, это раздражение оказалось на руку городским стипендиатам, обучающимся в Казанском, Томском университетах, на Высших женских курсах и пр. А дело в том, что после кровавого воскресенья 9 января 1905 года многие учебные заведения закрылись, и городская благотворительная комиссия, ведавшая стипендиями, задумалась, надо ли высылать деньги студентам. Сомнения комиссии разделила городская управа, считавшая, что если и высылать, то не студентам, а ректорам, и с условием выдачи только с началом занятий. Предложение вынесли на заседание думы; вот тут-то гласные и получили шанс реабилитироваться перед учащейся молодёжью. И они этим шансом воспользовались, решительно постановив «выслать деньги немедленно». ...Постояв у училища, Костя Лепендин, по обыкновению, начинал слоняться по улицам. Ведь без брата дома ему было скучно: отец, если попадалась работа, уходил очень рано, а будучи «без надобности», вспоминал про приятелей. Ещё дома были три младших сестры, но «водиться» с ними Костя совсем не хотел и при первой возможности убегал из дома. Впрочем, мать и сама отпускала его: в этот год она не работала ни на базаре, ни в прачечной, а сидела дома, потихоньку приторговывая вином. У Елены Григорьевны Лепендиной обнаружилась лёгкая на продажу рука, но она стыдилась этого непотребного дела и пыталась скрыть его от сыновей. Сегодня, когда мать за воротами молча перекрестила его, Костя понял, что раньше двух пополудни можно не возвращаться. И потолкавшись у училища, побрёл к Арсенальской площади. За лавкой Жернакова слышались оживлённые голоса, и, свернув за угол, Костя увидел знакомого цыгана, азартно нахваливавшего какому-то господину больного мерина Серко. И спустя полчаса тот, польстившись на дешевизну, уже ехал в полупустой телеге. А Костя, получивший от цыгана пятак, бежал следом. Недалеко от второй полицейской части конь упал — и Костя стремглав помчался на Арсенальскую — предупредить цыгана и получить второй пятак. Правда, на этот раз денежка, описав круг возле мокрого носа Кости, вернулась к хозяину; цыган засмеялся, но предложил прокатиться до Сенного базара. Конечно, Костик согласился — знал, что ехать они будут быстро, задирая прохожих и обгоняя красивые экипажи. Сена в этот день было много, но за воз в 12 пудов, до военного времени стоивший семь рублей, запрашивали не менее десяти. Для цыгана, только что сбывшего непригодного для работы коня, это были не деньги, однако просто взять да купить ему было не в масть. Переходя от воза к возу, он цокал, щёлкал длинными пальцами и картинно морщился: «Сено-то, сено-то — одна гниль!» Хозяин воза возмущённо приподнялся (на что, видно, цыган и рассчитывал), но что было дальше, Костя так и не узнал, потому что на него налетели приятели, Ванька маленький и Ванька большой. Хохоча и толкая друг друга, они побежали привычным путём, к Мелочному базару. Ванька-младший (он всегда был голодный) предложил стянуть рыбный пирог, припасённый одной торговкой к обеду, но Костик колебался — он приметил неподалёку церковного старосту и городового. Но пирог был так близко, и дух от него шёл такой, что Костя не удержался, схватил свёрток и, нырнув в другой ряд, вынырнул уже только на Толкучей, где в укромном месте поджидали приятели. Ванька-младший трясся — то ли от удовольствия, то ли от холода, то ли от страха. На всякий случай Костя успокоил его: — Нам, главное, на вокзале не воровать: там спрос короткий, потому как чугунка на военном положении, — он солидно выдержал паузу. — Да война-то ишо в августе кончилась! — встрял Ванька-старший. — Война-то кончилась, а положение осталось! Мне цыган говорил, — бросив в рот последние крошки, Костя поднялся. — Ну, пошёл я, надо домой показаться. Оба Ваньки смотрели на него умоляющими глазами: им страсть как хотелось попасть на «чугунку», которая «на положении». В августе 1905-го вместе с известием о мирных переговорах пришла надежда, что все узлы на затоваренных станциях, наконец-то, развяжут, но как раз в эту пору начались забастовки железнодорожников, и действительно: билеты на запад продавались теперь лишь до станции Клюквенной (где-то между Красноярском и Канском), и ответственность за дальнейшее следование дорога на себя не брала. На станции Иркутск исчезло расписание, и начальник просто вывешивал объявления о ближайших поездах. Фронтовики, возвращавшиеся с востока, застряв на какой-нибудь станции, грозились отцеплять паровозы от «гражданских» поездов. В разгар таких стычек и выехал из Маньчжурии начальник военных сообщений тыла российской армии. Всю дорогу он расспрашивал железнодорожников, особенно низших агентов, стрелочников и составителей поездов. Просил потерпеть, обещал скорые перемены, и при этом держался так уверенно, что за ним ощущалась серьёзная сила. Добравшись до Иркутска, он подготовил приказ, по-военному безапелляционный, но при этом чрезвычайно эмоциональный и не без погрешностей в пунктуации и стилистике. В «Иркутских губернских ведомостях», получив документ для опубликования, с изумлением прочитали: «Вследствие происшедших на Забайкальской дороге забастовок и прекращения на ней телеграфного действия и железнодорожного движения признав необходимым подчинить себе названную дорогу во всех отношениях, повелеваю, на основании статьи двенадцатой, приложения 1 «Положения о полевом управлении войск в военное время», главному начальнику тыла привести в исполнение это повеление». Редактор наведался в губернское управление, но там лишь подтвердили, что приказу велено дать самый скорый ход. Позже, когда тираж номера был уже отпечатан, в редакции перечитали приказ и под его неуклюжим жёстким верхом разглядели бархатную подкладку: «Организация беспорядков, забастовок и прекращения движения понудят меня принять все меры к поддержанию порядка и непрерывности движения во что бы то ни стало. Считаю долгом объявить, что существующий на дороге порядок службы не будет мною изменён, пока движение будет правильно. Насколько недопустимы посторонние влияния, настолько же я готов идти навстречу улучшению быта служащих, мастеровых и рабочих. Все полученные мной при проезде по линии заявления и прошения рассматриваются. При этом должен отметить, что отношение администрации дороги к нуждам младших служащих оставляет желать многого». Была в этом приказе и просто просьба войти в положение, подумать, как беспорядки на дороге скажутся на согражданах: «Прекращение движения отражается прежде всего на нашей армии, находящейся в Маньчжурии, несвоевременностью снабжения её тёплой одеждой и продовольствием. Прекращено получение известий и правильность обратной в Россию перевозки пробывших около двух лет вдали от семей войск. Это обстоятельство тем более важно, что нарушение срока вывода войск из Маньчжурии, установленное договором с Японией, может вызвать международные осложнения. Обращаюсь к служащим, мастеровым и рабочим Забайкальской дороги с просьбой помочь мне сделать движение непрерывным и правильным. Надо всегда помнить о той громадной нравственной ответственности, которая лежит на каждом из нас перед миллионной армией в Маньчжурии и многими миллионами их семейств и близких в России. Ума и знаний для исполнения порученного дела у всех достаточно, необходимо лишь во взаимных отношениях побольше сердца и меньше формальности и бумаги». Столь трогательная концовка сурового в своей сути приказа стремительно распространилась по линии, сразу ослабив позиции агитаторов-революционеров. Произведённый эффект закрепил и начальник Забайкальской железной дороги, объявив, что «с соизволения Его Императорского Величества будут приняты решительные и безотлагательные меры к улучшению быта низших служащих дороги. Вместе с сим господин министр путей сообщения приказал объявить, что если в понедельник 24 октября или через сутки после получения этой телеграммы они станут на работу и нормальное течение на дороге восстановится, то поступки, вызвавшие замешательство на дороге, преследоваться не будут, и жалование будет уплачено. Будет послан экстренный платёжный поезд, но не ранее, чем будет известно, что все рабочие начали работы». А в номере от 12 ноября «Иркутские губернские ведомости» рассказали и ещё об одной уступке забастовщикам «Стрелочники, младшие составители поездов, сцепщики и телеграфисты предъявили требования, чтобы им были даны квартиры. Рассмотрев этот вопрос, министерство путей сообщения для достижения однородности в правах признало необходимым дополнить список служащих, имеющих право на квартиру натурою. А также ходатайствовать о выделении ссуд на частное домостроительство всем категориям служащих». 30 октября со станции Клюквенной пришла успокоительная телеграмма: все поезда отправляются на восток и на запад по расписанию. И министерство путей сообщения торжественно заявило, что «на всех русских железных дорогах забастовки окончились». В самом деле: с первых чисел ноября иркутяне начали получать свежие номера столичных газет. Вскоре вся перевозка гражданских грузов возвратилась в ведение министра путей сообщения; застрявшие вагоны получили право преимущественной отправки, вплоть до 15 декабря. Но внутри министерства было далеко не спокойно. «Усиленное движение военного времени открыло, что действующие правила перевозки не отвечают современным условиям», — говорилось в одной из служебных записок. Назывались все чиновные недогляды и недочёты, предлагались превентивные меры, способные уберечь от забастовок в будущем. Их и обсудили на съезде представителей всех русских железных дорог. Вслед за железнодорожниками критически осмотрели себя и некоторые представители духовенства. Корреспондент «Иркутских губернских ведомостей», попав на съезд Иркутской епархии, с изумлением законспектировал: «Жизнь идёт быстро вперёд, выдвигает всё новые и новые запросы и предъявляет всё большие и большие требования. В частности, от православного духовенства она требует известной умственной высоты, побуждает его к самоусовершенствованию и самообразованию, требует обновления пастырской деятельности. А между тем духовенство завалено массой всякой письменной работы. Оно обязано вести метрические, обыскные и приходо-расходные книги, исповедные росписи, журнал богослужебный, входящий и исходящий, венчиковую тетрадь, летопись, клировую ведомость, доставлять сведения по воинской повинности. Наше духовенство, особенно больших приходов, обращается в чиновничество. Обсудив этот вопрос, съезд постановил просить его высокопреосвященство войти в Святейший Синод с ходатайством». В день съезда священнослужителей у Лепендиных были Васькины именины. И по этому случаю в рыбных рядах присмотрели щуку. Торговец завернул ей в старый номер «Губернских ведомостей», и вечером именинник, разгладив газетный лист, прочитал: «В воскресенье 2 октября в залах Общественного собрания детский праздник в двух отделениях. Игры, шарады, басни в лицах. спектакль. танцы. два оркестра музыки». — Ты чего разнюнился? — удивился пьяненький Лепендин-отец, давая Костику лёгкий подзатыльник. Испытание свободами Вечером 17 октября 1905 года четверо неизвестных останавливали проходящих по Амурской и решительно требовали сдавать прокламации. Удивлённые иркутяне растерянно отвечали, что не несут запрещённой литературы — и для пущей убедительности открывали портфели, сумки, выворачивали карманы. «Проверяющие» деловито обыскивали доверчивых обывателей, почти всех оставляя без часов и портмоне. На другой день пристав первой полицейской части перечитывал заявления потерпевших и, сбивая их в ровную стопку, скептически размышлял, что, должно быть, это только начало, уголовники не упустят шанс нагреть руки на преследованиях «политических». Пройдёт совсем немного времени, и для пострадавших за убеждения откроются двери тюрем, запрещённые издания легализуются — к восторгу одних, негодованию, страху других. Манифест 17 октября лишь усилит противостояние в обществе. Группа иркутян, тщательно изучив документ о свободах, обнаружила противоречия между ним и Городовым положением 1892 года. Правовую коллизию предложили разрешить «очень просто» — отказавшись от выборов в местное самоуправление, вплоть до выработки и утверждения нового Городового положения. Самое же пикантное было то, что полномочия действующей городской думы Иркутска истекали через несколько недель, и гласным, отслужившим выборный срок, следовало отстраниться от управления — в соответствии с законодательством. То есть, город должен был вообще оставаться без власти — в угоду объявленным Манифестом свободам. Столь экстравагантное предложение не получило поддержки большинства ни в думе, ни среди обывателей, но «камень был брошен, и он остался лежать», как заметил старейший купец и многоопытный гласный Иван Александрович Мыльников. — Мы, вчерашние городские отцы, вели дело, опираясь на здравый смысл, но нам казалось всегда, что домашнего образования, бывшего у большинства, слишком мало — и всякую свободную городскую копейку откладывали на школы, стипендии и пособия для учащихся. И вот образованные господа наполнили город, но лучше от этого он не стал. Читать юридические документы научились, это — да, но, оказывается, только лишь для того, чтобы всё позапутать и обессмыслить. Самое же плохое, что такая «комедия», коль уж она началась, скоро не пройдёт, с нею долго придётся жить. Я-то захвачу лишь немного, но уж ты-то намучаешься сполна! — с непривычною нотой отчаяния говорил он сыну. — Сам ведь мне не раз говорил: надо принимать что даётся! Да у нас-то в Иркутске ещё ничего, помягче, чем в других-то губерниях. Ты же ведь читал, как в Томске «опьянённая Манифестом толпа разгромила дом городского головы». Законоучитель 2 иркутской женской гимназии священник Фёдор Верномудров, узнав об этом из газет, произнёс сакраментальную фразу: «В такой «свободе» можно и задохнуться». Но он вряд ли предполагал, насколько опасной окажется эта «свобода» для него самого. В последний год не только в мужской, но и в женских гимназиях обосновались социал-демократы, правда, до 17 октября прямых столкновений между педагогами не было. Верномудрову казалось порой, что учительница истории Козьмина гримасничает у него за спиной, но он ведь мог и ошибаться — просто потому, что его самого чрезвычайно раздражала эта эмансипированная особа. 23 октября после недельного перерыва, вызванного всеобщей забастовкой, во второй женской гимназии возобновились занятия. И самым первым уроком в старших классах был поставлен урок истории. Козьмина полностью посвятила его Манифесту 17 октября, и на перемену девочки выскочили с удивительным ощущением: главное событие их жизни произошло, ведь теперь они все наравне с мужчинами! Если же кто-то этого не понимает, то он просто отсталый, глупый или злой. Неизвестно, звучала ли на уроках Козьминой фамилия Верномудрова, но, встречая его в этот день, даже самые младшие ученицы едва кланялись и, смеясь, поздравляли с Конституцией. Свою отповедь отец Фёдор дал на уроках, названных им «Беседами о 17 октября»: — Иисус Христос и апостолы проповедовали свободу, но какую? Многие так и не поняли этого. И теперь извращают данные Манифестом свободы. Мы увидели это ещё накануне 17 октября, когда забастовщики ходили по магазинам и учреждениям, заставляя их закрываться. Это было насилием под предлогом свободы! «Беседы» тотчас разошлась по гимназии, и началось стихийное голосование. К примеру, в одном из пятых классов 18 учениц поддержали отца Фёдора, а 13 высказались против него. Разделились и родители воспитанниц, и местная пресса. Прежде о Верномудровых писали как о застрельщиках народных чтений (Фёдор Фёдорович был прекрасный чтец, а супруга увлечённо музицировала) — теперь же законоучитель становился героем политической хроники. «Восточное обозрение» обвиняло его в... нехристианском отношении к революционным событиям, а «Иркутские губернские ведомости», напротив, публиковали письма «В защиту Верномудрова». В начале 1906 года «Восточное обозрение» закрылось, но травлю законоучителя с готовностью подхватили новые демократические издания. Даже спустя год после инцидента в гимназии «Восточная Сибирь» возмущалась, что отец Фёдор до сих пор там преподаёт. Во всех учебных заведениях материал преподносила теперь под соусом прав и свобод. К примеру, предлагалась вот такая задача: «Недавно прибыли из Читы за расчётом 55 конторщиков разных служб Забайкальской железной дороги. Их уволили за «решительно выраженный отказ работать более 6 часов в сутки. Какие из гражданских свобод попрал в данном случае начальник управления Свентицкий»? Или вот такая: «Многие жандармские офицеры на станциях железной дороги подают в отставку, потому что «устали от политических беспорядков». Удастся ли отыскать жандармам замену и как это скажется на развитии гражданских свобод? Отъезд из Иркутска инспектора народных училищ Заостровского вылился в скандал, дотоле невиданный. Обычно чиновникам, отработавшим в Сибири немалый срок, наездившим тысячи вёрст по местному бездорожью, вручали памятные Адреса, альбомы с фотографиями коллег. На этот же раз, параллельно с традиционным Адресом явился Контр-Адрес, выразивший «радость по случаю отъезда типичнейшего представителя умирающего бюрократического режима». Ученицы, вчера ещё скромные девочки, срочно «эмансипировались» и теперь устраивали побоища из-за смятого банта или пропавшего учебника. Гимназисты-старшеклассники требовали включения в педсоветы, дабы «отстаивать попранные права». Замечаний решительно не принимали, угрожали забастовками, а во время всенощной демонстративно курили у церковных сторожек и смеялись так громко, что мешали богослужению. В этом нервном, непрекращающемся протесте ощущалась болезненная, щемящая нота, близкая к психозу. Известия о бессмысленных мятежах, грабежах магазинов, разорении усадеб несли тревогу и страх, и никто уже не был уверен в завтрашнем дне. Удручало и то странное удовольствие, с которым газеты вели хронику разрушений в умах. Казалось, служители печатного слова не сознавали его страшную силу. Или просто считали, что народ не решится на настоящую революцию. Или просто переживали эйфорию от дарованной им свободы печати. Клише для иркутского журнала «Жало» заказывали в Красноярске, так они были злобны, да и внутри газетного-журнального сообщества не прекращались обстрелы, рукопашные, равно как и заурядные обливания грязью. Дарованные Манифестом свободы всё больше сбивались к анархии. На станции Нижнеудинск объявилась некая организация, назвавшаяся Мировым порядком и присвоившая себе право миловать и казнить. Изо дня в день она выносила постановления, так что к началу июля 1906 года их было уже 116. Следующее, 117-е адресовали Нижнеудинскому мировому судье Захарию Розенблиту: «Снисходя к вашим малолетним детям, мировой порядок вследствие окончательного своего постановления за №117 предлагает вам, Розенблит, немедленно подать в отставку и к 1 ноября 1906 года совершенно выбыть из пределов Иркутской губернии на постоянное жительство в Якутскую область. В противном случае вы будете немедленно лишены рукою мирового порядка своего существования в сём мире за совершённые и совершаемые вами при исполнении служебных обязанностей разного рода злодеяния, взяточничество, ложные способничества и подстрекательство народа к низвержению государственного правового порядка с судейского поста! Примите истинные уверения! Председательствующий правового порядка». Подобные бумаги уже мало кого удивляли, и газета «Восточная Сибирь» публиковала их просто, без комментариев. В свою очередь часть читателей воспринимала их как пример для подражания. Так, садовник начальника станции Нижнеудинск в ответ на критику за испорченный урожай вырвал палку из рук хозяина и «ответил ещё более энергичным ударом той же палки начальнику в лоб». Когда Фёдор Верномудров прочёл о том, что в Нижнеудинском тюремном замке арестанты ходят босыми «из-за непоставки обуви», он уже и не удивился: «Нельзя ведь одновременно и работать, и бунтовать, ревностно исполнять долг и при этом бороться с инакомыслящими». Общий угар от Манифеста 17 октября затягивался, а власть не знала верного средства против него и прибегала к подручному — просто высылала неблагонадёжных как можно дальше, в том числе и за границу. При этом опытные жандармы скептически пожимали плечами, хорошо понимая, что от перемены слагаемых сумма опасности не меняется. Жандармы устали и с готовностью уходили в отставку. Вот и иркутский ротмистр Богданов однажды не отправился утром на службу. Соседи по Подаптечной, всегда боявшиеся его, сначала удивились, но скоро осмелели, и в короткое время Богданов стал настоящим посмешищем во дворе. Родственники советовали ему съехать, но бывший жандарм упёрся, стал по старой привычке хвататься за револьвер и грозить арестом. Кончилось тем, что арестовали его самого. Отставной подполковник Павлов, слышавший эту историю, крепко задумался и вскоре... исчез. А когда спохватились, то никто и не вспомнил, куда. Так и не узнали бы, если б не корреспонденция, напечатанная в «Восточной Сибири»: «Проживавший в селе Кутулик отставной подполковник Павлов отправился в лес за грибами и, сев у опушки покурить, получил удар в голову. Потом ему перерезали горло. Убитый ничего не имел и стоял совершенно в стороне от политики. Три дня спустя на том же месте был зарезан пастух». Октябрьские перекрёстки Октябрьским утром, поднявшись в обычный час, статский советник Виноградов начал собираться на службу. За окном уютно шумел проснувшийся город, но в доме было странно тихо. Александр Иванович порывисто толкнул дверь своего кабинета, почувствовал резкую боль в сердце — и вспомнил, что он всё ещё не здоров. Вот уже более месяца он жил непривычной жизнью, наполненной запахами пустырника и боярышника, сочувственными взглядами докторов и тревожным шёпотом близких. Болезнь настигла его врасплох: 1905 год, как и предшествующий 1904-й, складывался на редкость успешно. Из коллежских советников Александр Иванович перешёл в статские, возглавил Общество по устройству народных чтений в Иркутске и Иркутской губернии, стал членом правления иркутского Благотворительного общества. В июне 1905-го его поздравили с пятилетием пребывания на посту редактора «Иркутских губернских ведомостей». Было сказано много доброго, даже и критиками из «Восточного обозрения», любившими «всыпать» официальной печати. Александр Иванович был приятно размягчён. Конечно, за пять лет он далеко не единожды бывал под огнём: то куйтунский крестьянин Непомнящий тянул в суд, усмотрев в письме сельского корреспондента личное оскорбление; то настройщик фортепиано воображал, что в газетном фельетоне есть намёк на него и отказывался обслуживать домашний инструмент Виноградовых. То губернские власти принимались усиленно контролировать «наши ведомости». Но всё это не оставляло зарубок, и редакция продолжала жить привычной, открытой жизнью. Обыватели несли сюда подобранные портмоне, номерные знаки извозчиков, пожертвования раненым, объявления о прибившейся лошади и пропаже щенка. Заезжие знаменитости спешили в редакцию из расположенных неподалёку номеров «Метрополя» и «России» — передать новости и расспросить о здешней жизни. Как советник Губернского управления Виноградов должен был каждый день появляться в присутствии, но, быстро взяв информацию, ехал «к себе», в дом Игумнова на перекрёстке главных улиц, Большой и Амурской. Дверь кабинета почти всегда оставалась открытой, и хоть гости старались не шуметь, их оживлённые голоса доносились, и порою он с удовольствием вслушивался: за время войны в разговорах проявилась особая, почти родственная интонация. И Александру Ивановичу даже думалось, что так и будет отныне, но он заблуждался, конечно: после заключения мира иркутяне быстро вспомнили внутренние разногласия, обиды, противостояния. Какие-то комитеты снова принялись грозить стачкой и даже вооружённым восстанием, общество разделилось на сторонников и противников революционных перемен. Вице-губернатор Мишин, в недавнем прошлом считавшийся либералом, теперь требовал перепечаток черносотенных публикаций из московских «Ведомостей». Газета «Восточное обозрение» ушла в откровенную фронду — и Александр Иванович, вчера ещё «умный и порядочный», был объявлен «гнусным ретроградом» и отпетым врагом гражданских свобод. Перемена оказалась, увы, слишком резкой, и ранним сентябрьским утром 1905 года редактор «Губернских ведомостей» почувствовал, что задыхается. Надеялся, что отлежится дня два — и всё будет по-прежнему, но болезнь прогрессировала, «вместе с бунтом», как отшучивался он сам. Доктора ограничили посетителей, запретили чтение всех газет, и в конце концов, на столе осталась лишь «Памятная книжка Иркутской губернии» — издание местного статистического комитета. Виноградов получил её ещё несколько месяцев назад, но, признаться, так ни разу и не открыл. И теперь нехотя перелистывал страницы, не рассчитывая наткнуться на свежую информацию, не печатавшуюся в его газете. «Памятные книжки» выходили как ежегодники, и многие страницы с адресами присутственных мест, часами приёма и фамилиями чиновников без всяких правок перекочёвывали из книжки в книжку. Наборщики губернской типографии часто ссорились из-за столь «лёгкого заказа», а Александр Иванович считал его скучным и был рад, что губернский статистический комитет сам редактировал тексты. Но теперь, в часы вынужденного досуга он невольно задержался на «Памятной книжке» — и заинтересовался. Губернские статистики играли цифрами будто мячиками: взяв за основу «1905 год от Рождества Христова», высчитывали, а какой это год от начала известий об Ангаре и Лене. А также — от основания иркутской епархии, от кончины святителя Иннокентия, от назначения в Иркутск первого губернатора, от прихода в Иркутск первого поезда, от введения института крестьянских начальников и пр. Естественно, что был сделан отсчёт и «от посещения Иркутска наследником-цесаревичем, ныне благополучно царствующим». «А благополучно ли? — невольно споткнулся Виноградов. В тот отрезок времени, пока «Памятная книжка» собиралась, вычитывалась, печаталась и переплеталась, мир вокруг изменился настолько, что уж и трудно что-либо утверждать наверное. Единственное, что не устаревает, — «Пасхальная таблица», расписавшая все посты, мясоеды, «переходящие праздники» вплоть до 1914-го. А вот в управлении генерал-губернатора вряд ли обойдётся без перемен. Впрочем, как и в губернском управлении; и нет ни малейшей уверенности, что в следующей «Памятной книжке» сохранится запись о советнике Виноградове как ответственном за выпуск губернской газеты. В июне, когда Александр Иванович отмечал пятилетие своего редакторства, несколько гостей, словно бы сговорившись, отметили: юбиляр вполне мог бы вести собственное издание. Что до самого Александра Ивановича, то все силы его уходили на то, чтобы ставить «Ведомости» по программе, задуманной им ещё в 1900 году. Но, возможно, болезнь дана ему, чтобы всё-таки определиться? Эта мысль, пришедшая неожиданно, сразу захватила, и к вечеру он уже обдумывал всё самым обстоятельным образом. И по всему выходило, что надо срочно писать в Петербург, подавать прошение об открытии собственного издания (назовём его, скажем, «Иркутский вестник»). Контур будущей газеты прорисовывался на удивление легко. Конечно, хотелось сосредоточиться на Иркутске, но при этом не забыть и губернию. В сущности, это не просто большая, но и очень интересная территория, разделённая ведомствами, церковью, докторами и пр. на бесчисленные участки, округа, благочиния. В идеале, надо бы освещать жизнь всех 63 волостей, 36 инородческих ведомств, 21 участка крестьянских начальников, 23 станов, 69 участков полицейских урядников, 19 сельско-врачебных участков. В Иркутской губернии насчитывается 2461 населённый пункт (включая сёла, деревни, станицы, выселки, заимки, улусы, урочища, стойбища), и о многих ли удалось рассказать за пять лет редактирования «Иркутских губернских ведомостей»? Массу времени брал официальный отдел, что совершенно естественно для официального органа. Но теперь же открываются совершенно новые перспективы! К примеру, он бы сразу отправил репортёра в деревню Ново-Ямскую. Во-первых, недалеко, во-вторых, по соседству расположились прядильня Теламова, динамитный склад Нобеля, заимки Войтальянова, Хочетурова, Карнакова — сколько материала можно взять в один день! Неплохо бы съездить и во Введенщину, в окрестностях которой три завода — известковый Рыхлинского, дегтярный Брандера и лесопильный Дьячкова. Ещё хорошо бы встретиться с кем-нибудь из крестьянских начальников — у них ведь тоже государство в государстве: в подчинении каждого по четыре-пять волостей и инородческих ведомств. А почтово-телеграфные конторы с их разбросанными отделениями: одно из них значится аж «в зимовье № 7»! Вот в это самоё зимовьё, где-то между Витимом и Бодайбо, и направить бы корреспондента с кем-нибудь из торговых людей! Охотно читают и байкальские новости, но поездка на пароходе дорога: только до Лиственичного надо заплатить 2 рубля, а от Лиственничного до Мысовой — ещё 6 рублей 50 копеек. Частному изданию это будет дороговато. Вообще: таксы всегда оставляют массу вопросов. К примеру, проезд по понтонному мосту в Иркутске оплачивается извозчиком, а на «самолёте», карбазе, пароме платит исключительно пассажир. Странно так же, что переправа на карбазе обходится вдвое дороже, чем на «самолёте» и пароме. И об этом, решил Александр Иванович, надо будет обязательно написать, основательно и серьёзно. Но главным разделом в газете всё-таки должен стать учебный — Иркутск во все поры испытывал пиетет перед образованием, и сейчас в губернии, как утверждает «Памятная книжка», 512 различных учебных заведений; есть даже лесная школа, о которой тоже хочется рассказать... Тут зазвонил телефон, и Александр Иванович стал подниматься, чтобы идти в гостиную. Но супруга уже подняла трубку: — Спит. Конечно же, спит. Лучше. Много лучше. Газету подпишет. К вечеру приносите, пожалуйста. ...Приказом Иркутского губернатора от 16 ноября 1905 г. советник Иркутского губернского управления Виноградов уволен от должности редактора «Иркутских губернских ведомостей» по болезни, согласно прошению. 3 декабря 1905 года из печати вышла ежедневная внепартийная газета «Иркутский вестник». Приостановлена 20 мая 1906 года на 126-м номере. В глухой обороне В начале осени, проводя отпуск на европейском курорте, Совалёв много бродил по окрестностям, любуясь уютными, словно игрушечными домиками, окружёнными стриженым кустарником и ещё цветущими клумбами. Едва солнце уходило за горизонт, на дверях и на окнах, будто бы по команде, опускались стальные шторы; вслед за этим и цветы складывали свои лепестки, лишь кустарники с тем же любопытством топорщили короткие ветки. Иннокентий Васильевич посмеивался над осторожностью немцев; впрочем, вспоминая свою квартиру в Иркутске, думал, что неплохо б зашторить подъездную дверь. Да и окнам первого этажа сталь явно не помешала бы, особенно с учётом недавних демонстраций и митингов. Однако не везти же ставни через границу»! В Москве, где Совалёв остановился на неделю, окна даже на ночь оставались распахнутыми, но на вокзале, перед самой отправкой в Иркутск, он встретил приятеля, недавно поступившего в Торговый дом «Д.Стелинский и К°», поставляющий товары из стали, и хорошенько обо всём расспросил. А по приезде в Иркутск первым делом отправился на Большую, к владельцам магазинов с зеркальными окнами-витринами. Роман Семёнович Кальмеер, ещё не дослушав, распорядился сделать точный обмер проёмов, оконных и дверных. В кондитерской Ходкевича тоже пожелали зашторить окна и двери, а коммерсанты Шафигулины даже стали настаивать, чтоб у них «эти ставни железные» появились в первую очередь. Одним словом, когда Совалёв добрался, наконец, до своей квартиры, весь блокнот его был исписан заказами. 17 ноября 1905 года на заседании иркутской думы только и говорили, что о самообороне. У городского головы было несколько заявлений от горожан, обещавших, что если гласные не побеспокоятся, иркутяне сделают это сами. Однако этот аргумент не понадобилось вынимать из кармана — в зале ведь находились владельцы магазинов, обитатели особняков, изначально готовые сделать всё, чтобы сохранить нажитое. Тут же образовали комиссию из Д.М.Кузнеца, М.П.Окунева, Я.Г. и Г.Б. Патушинских, С.С.Кальмеера и К.М.Жбанова, и она подсчитала, что содержание городской милиции обойдётся около 17 тысяч рублей в месяц. Бюджетом такие расходы не были предусмотрены, поэтому предполагалось собрать деньги с домовладельцев, по принципу: чем дороже недвижимость — тем больше взнос. Но при всём старании удалось получить лишь двенадцать тысяч — отчасти и потому, что губернатор решительно возражал против милиции, требуя подчинения всех отрядов самообороны городскому полицмейстеру. При таком повороте событий члены комиссии по обороне стали покидать её, и одним из первым это сделал доктор Жбанов. Константин Маркович, безусловно, знал, что состоятельные горожане уже позаботились об охране личного имущества. Это не афишировалось, но было очевидно для всех, особенно вечерами, когда вокруг больших магазинов и лучших особняков занимали оборону десятки запасных. Или тех, кто только рядился в них, прикупив шинель? 11 декабря два «патруля» столкнулись в квасной лавке Антонова — трое погибли сразу, после чего пошла беспорядочная пальба; шальные пули попали сначала в двух посетителей, потом в лошадь извозчика, стоявшего на углу, потом изрешетили чайную, расположенную по соседству. В тот же вечер мещанин Михаил Тарасов, возвращавшийся на квартиру родственника, был ранен, а когда пришёл в себя, то на нём уже не было бешмета. А в ночь на 19 декабря неизвестный «патруль» обстрелял трёх крестьян, арендаторов кирпичных сараев в районе Малой Разводной. «Патрульные» были замечены и в толпе, громившей меблированные комнаты «Южный Кавказ» в Глазковском предместье, а также лавки Онанашвили и его дом, в нижнем этаже которого находился склад Красного Креста. К счастью, быстро подоспели войска, а не то последствия были бы тяжелейшие. 15 декабря под мостом, неподалёку от лавки, которую называли кто грузинской, а кто черкесской, был поднят труп солдата; а уже утром 16 декабря заподозренный в убийстве был доставлен в полицейскую часть избитым. Пьяная толпа разнесла его лавку, а потом и ещё одиннадцать заведений, оказавшихся на пути. Пятерых оказавших сопротивление растерзали, среди них был и низкорослый солдатик, собиравшийся «завтра на митинг в театр». Митинг, действительно, состоялся и едва не закончился пожаром. Правление Общества взаимного страхования от огня решило даже снимать с себя всякую ответственность в дни проведения в театре митингов. Забастовочные настроения мало способствовали торговле, но Иннокентий Васильевич Совалёв регулярно наведывался в местные редакции — заказывал новые рамки для рекламных объявлений или новый рисунок, придуманный им во время обеда. Совалёв любил изысканную кухню, способствующую пищеварению и рождению новых идей, а вот товар предпочитал увесистый и приносивший хороший процент. Ещё недавно Иннокентий Васильевич регулярно пополнял свой счёт в Сибирском торговом банке, несмотря на заторы на железной дороге и прохудившиеся за время военных действий бюджеты. Но наступило мирное время — и коммерция стала сворачиваться. А железнодорожная и почтово-телеграфная забастовки отрезали предпринимателей от поставщиков. Начальник почтово-телеграфного округа Пономарев уже не обедал, как прежде, в «Метрополе» и был мало похож на того уравновешенного и добродушного человека, каким знал его Иннокентий Васильевич. Прошлой ночью на квартиру к Пономарёву явился бастующий телеграфист Исаев — «для переговоров»; а встретив отказ, стал обстреливать окна. В ту же ночь незваные гости ворвались в дом «неприставшего к забастовке» Калганникова и учинили там обыск, пытались схватить «ренегата Кулинского», с трудом отстрелявшегося от бастующих сослуживцев. Большая часть телеграфных чиновников была из разряда колеблющихся и испытывала давление сразу с двух сторон: начальство уговаривало возвратиться на рабочее место, а «товарищи по службе» пугали расправой за штрейкбрехерство. 14 декабря заведующему телеграфной конторой передали письмо от подчинённого Тихомирова: «Карл Фридрихович, вчера я дал вам честное слово, что приступлю к работе; прошу считать его недействительным: не могу». В середине декабря работала только треть служащих Иркутской телеграфной конторы. Совалёв, уставший быть не у дел, разыскал начальника почтово-телеграфного округа Пономарёва, почти силой доставил в «Метрополь» и в перерывах между блюдами увлечённо изложил свой «проект наполнения штатов». Сначала чиновник слушал рассеянно, потом с усмешкой, но после десерта уловил рациональное зернышко и, остановив Иннокентия Васильевича на полуслове, стремительно вышел. Совалёв же отбыл на любимый диван, где со вчерашнего вечера ждали его «Сибирские вопросы», издаваемые господином В.П.Сукачёвым под редакцией приват-доцента П.М.Головачёва. В прежнее время, занятый заказами и поставками, он и не добрался бы до столь серьёзного сборника, а вот теперь читал, и читал, надо правду сказать, с удовольствием. Главной темой выпуска были земства, всегда казавшиеся Совалёву чем-то неосязаемым и туманным. Ясности не добавилось и теперь, но Иннокентия Васильевича чрезвычайно занимала почти детская вера авторов и издателя в то, что с появлением земств жизнь в Сибири наладится безусловно и как бы окончательно. Той же верой дышала и небольшая книжка Н. П. Дружинина, случайно купленная и долго пылившаяся у Совалёва на полке. Она и называлась прелестно длинно: «Рассказ о том, как устроили свои общественные дела крестьяне трёх грамотных деревень». Насмеявшись в полное удовольствие, Иннокентий Васильевич перешёл к деловым новостям. Газеты были, увы, двухнедельной давности, и ни в одной ни полслова о разведанном близ Баргузина нефтяном месторождении, называемом всеми «предприятием господина Березовского». Но едва Совалёв подумал об этом, как сосед занёс ему свежий номер «Иркутских губернских ведомостей» с весьма примечательным сообщением: «Если бы не события последних дней, то американский миллиардер Рокфеллер, сильно интересующийся сибирской нефтью, купил бы предприятие Березовского, и тогда Сибирь имела бы в скором времени дешёвый керосин». «Каток открывает свои действия» Тёплая погода привлекла на каток Детской площадки многочисленную публику. В пору войны с Японией и первой русской революции иркутяне не отказались от коньков: их в немалом количестве завозили коммерсанты Рафильзон и Мильнер, Пономарёв и Виноградов. Правда, в обувном магазине Пономарёва на Пестерёвской они терялись среди штиблет, ботинок, сапожек и полусапожек, бальных туфелек и калош. Для Рафильзона и Мильнера коньки были тоже сезонным товаром, лежавшим где-то за перчатками-кружевами-чулками, в окружении самоваров и швейных машин. И только у Ивана Никаноровича Виноградова «конёк венчал зиму»: уже с порога его магазина на Большой вспоминался лёгкий запах морозца в ясный солнечный день, приятная усталость мышц, ощущение бодрости и здоровья. Сам Иван Никанорович, подтянутый и весёлый, встречал в зале, держа в руках мощный «Гаген» или лёгкую «Христианию». Названия моделей он не произносил, а преподносил, и человеку стороннему даже могло показаться, что речь тут о близких Никаноровичу людях, а вовсе не о коньках. Любители зимнего бега боготворили Виноградова, и когда проводили соревнования, неизменно избирали распорядителем. По такому случаю Иван Никанорович и сам обряжался в спортивную форму и надевал «норвежские беговые с иркутским акцентом» коньки. И тут тоже была своя история. А дело в том, что к поставкам коньков Виноградов относился с необыкновенной серьёзностью, предварительно изучал особенности сибирского льда и пришёл к заключению, что для него характерна особая твёрдость и способность выдерживать конькобежца весом вплоть до 6 пудов. Но таким спортсменам нужны особенные коньки — и в норвежскую фирму был направлен специальный, иркутский заказ, с подробнейшим описанием от Ивана Никаноровича, какая «у наших коньков» должна быть форма, из какого сплава (лёгкого, но при этом и прочного) должно их изготавливать. Такие спецзаказы могли бы и разорить, но Ивану Никаноровичу после накруток тут же делали скидку за покупку товара большими партиями, так что, в конце концов, он оказывался даже в выигрыше, предлагая коньки не только отменного качества, но и по ценам, действительно, вне конкуренции. Поэтому даже Детская площадка могла позволить себе купить у Виноградова большую партию коньков. Костя Лепендин о катке на Детской площадке узнал от Ваньки-маленького: — Там, у театра всё льют и льют, а лёд-то всё тает и тает. Но вроде как вчера приморозило, и не тает уж больше — я через дырочку в заборе подглядел! Однако Костя решил, что надо ещё подождать, и пришли они на площадку только дня через четыре. Лёд был гладкий, ровный и звал прокатиться, но забор вокруг оказался не просто высокий, но и с перекладинками вовнутрь — Ваньке-маленькому нипочём его не одолеть. Решили выломать две доски. — Зачем же ломать, если можно просто войти с другой стороны, там, где надпись «Детская площадка»? — смеясь, спросила какая-то женщина. — Да вы читать-то умеете, судари? Давайте знакомиться, что ли? Меня вот зовут Аделаида Эдуардовна. А вас? В теплушке катка было натоплено, а на буфетных полках лежали разноцветные свёртки, и господин средних лет с удовольствием их распаковывал и раскладывал, весело говоря сам с собой. В соседней комнате висели коньки всевозможных размеров, и каждому из мальчишек тотчас подобрали по паре. Затем Костя и учительница принесли из Детского домика кресло и выкатили на лёд. Ванька-маленький крепко ухватился за спинку, Ванька-большой встал за ним, взяв за плечи, Косте же ничего не осталось как привязать верёвочку к ремню Ваньки-большого. Раза три упали, но потом приловчились кататься с одной, правой ноги и даже отказались от кресла. Часа через полтора Аделаида Эдуардовна крикнула их с крыльца и в большой комнате, совершенно зелёной от вьющихся растений и с портретами по стенам, напоила чаем. Потом она показала им, как из карточек-букв сложить слово «дети». «Детскую площадку» одолели лишь в следующие три дня. Обычно Костя утаивал от домашних все свои приключения, но теперь говорил без умолку. Старший брат, ученик третьего класса, посмеивался над ним, а мать улыбалась виновато: о Детской площадке она и не слышала, или, может, слышала, да толком не поняла. Зато теперь в Детском домике после занятий пили чай с лепендинскими пирогами. На уроках чтения первым был, как ни странно, Ванька— маленький; зато Костя преуспел в математике. Правда, не обошлось без конфуза: на одном из уроков Аделаида Эдуардована предложила самим придумать задачу, и Костя тут же азартно выбросил руку: «За шухер у цыгана я заработал 2 пятака, но у лавки встретил Ваньков. Придётся ли разломить одну булку или каждый получит по целой?» На катке компания бывала почти каждый день. И Костя с его новой привычкой считать и пересчитывать недоумевал: на какие деньги покупают коньки, если всех дошкольников и учеников младших классов пропускают бесплатно? Аделаида Эдуардовна улыбнулась в ответ: — Да, каждый месяц почти 8 тысяч детей катаются совершенно бесплатно. Но при этом ещё пять тысяч покупают билеты; подростки — по 10 копеек, а взрослые — по 20. Плюс деньги с буфетчика за аренду. Катки в Иркутске начала ХХ века были верным способом «усиления средств» общественных объединений; начинался ноябрь, и в газетах, одно за другим, появлялись объявления о ледовых площадках, «открывающих свои действия». Скажем, в 1889 году горожане могли выбирать между катком «Добровольного пожарного общества» и «Педагогическим». В зиму 1900-1901 гг. работали три катка: на Большой улице, а также на Преображенской и Тихвинской площадях. В зиму 1904 года к традиционным площадкам прибавилась старая Сенная площадь, облюбованная предпринимателем Дон-Отелло. Но самым необычным стал каток, открытый за пять лет до этого в Интендантском саду: посетители скользили по аллеям среди припорошённых деревьев, поворачивали к пруду, огибали фонтаны и летний театр, спускались к задним воротам, почти до самой Ушаковки, и медленно возвращались обратно. Вечером зажигались бенгальские огни и причудливые фонарики, по воскресеньям играли оркестры, проводились призовые гонки. На Детской площадке поднимались настоящие ледяные горы, в январе 1904-го здесь устроили большое гуляние с маскарадом и танцами вокруг ёлки под звуки военного оркестра. Распорядители в костюмах голландцев и норвежцев так «зажигали», что более шести часов никто не хотел расходиться. А собралось в тот вечер почти две тысячи человек. Устройство катков было проще всего для пожарных: они устанавливали паровую машину прямо на берегу Ангары и подавали воду на ближайшую, Тихвинскую площадь. Оркестр у Общества тоже был свой, так что все расходы сводились к аренде участка, его освещению и украшению. Общество распространения народного образования и народных развлечений, не имея ни оркестра, ни пожарных машин, располагало собственною площадкой — Детской, и могло позволить себе не разбирать на лето ни теплушку катка, ни окружавший его забор. Кроме того, организаторы проявляли чудеса экономии, обязывая буфетчика не только вести гардероб, освещать и отапливать теплушку, но и чистить каток. Всё это жёстко прописывалось в контракте, вместе с обязательством обеспечить половину арендной платы ещё до открытия катка, а оставшееся — никак не позднее, чем в середине сезона. Буфетчик, нанятый в ноябре 1904 года, был, конечно, обескуражен, но виду не подал, чем и расположил к себе даже самых бдительных активистов Общества. И когда он попросил об отсрочке окончательной выплаты, ему с готовностью пошли навстречу. Однако в назначенный для расчёта день буфетчик не явился; обнаружили лишь записку: «Сочту за лучшее раскланяться с площадкой». Не оправдали себя и ожидания Антонио Дон-Отелло, в январе 1904 года сделавшего ставку на гонки. Хотя всё начиналось хорошо: заказан был золотой шведский конёк-брелок — как главный приз в забеге на 30 кругов (каждый — по 200 саженей). Были и ещё два приза, не менее замечательных, и за каждый из них разгорелась борьба. Только зрителей оказалось до обидного мало: иркутяне не привыкли ещё к подобным состязаниям. И после выплат оркестру и распорядителю Дон-Отелло оказался в убытке. Но это ничуть не смутило Общество распространения образования и народных развлечений: оно так же устроили гонки. И не прогадали! К концу декабря 1905 года вся лепендинская компания уже неплохо каталась и даже предлагала устроить соревнование между дошкольниками. Мальчишки усиленно тренировались, а намёрзнув, спешили в Детский домик, к Аделаиде Эдуардовне. Записались в библиотеку, бывшую тут же, на Детской, и теперь приносили домой небольшие книжки. Костина мать даже сшила каждому по небольшому мешочку на твёрдой подкладке. А вот альбом для рисования отчего-то не купила. Уроки рисования проходили в самой лучшей комнате Детского домика, где хранились семь огромных атласов, большой гербарий, подаренный господином Юринским, а также находки, сделанные во время экскурсий по окрестностям. — Эх, кабы раньше знать — мы бы тоже ходили в походы! — вырвалось у Кости. — А кто сосчитает, сколько месяцев остаётся до лета? — Аделаида Эдуардовна, смеясь, оглядела мальчишек. — Можно и сосчитать, — охотно отозвался Костя Лепендин, — сейчас ноябрь — это раз; потом — декабрь — это два... 31 декабря 1905-го в Сибири ввели военное положение. В ночь на первое января на Детской площадке арестовали всех встречавших там Новый год, в том числе и подростков. Детей вскоре отпустили, а взрослых выслали в 24 часа. В их числе и Аделаиду Эдуардовну Третьякову. Затерялся в Пальмире На выезде из Рабочей слободы экипаж Волкова притормозил, решительно развернулся и, едва не задев встречного извозчика, понёсся обратно. Вслед за ним повернули и две большие повозки с садовой утварью. Нынешней осенью многие иркутяне закрывали дачный сезон позднее обыкновенного: в городе бастовали, стреляли, жандармы «наведывались» с обысками и арестами; при желании разыскали бы и на даче — и всё же тронутый первым инеем сад, прогулки от беседки к беседке умиротворяли — и возвращение всё откладывалось и откладывалось. Что до Волковых, то они ещё были озабочены, как же распорядиться многочисленными вещами, купленными для сада и придавшими дачной жизни уютный ход. За три последних месяца парк у Волковых хорошо разросся, и вся усадьба приняла законченный вид. Гости, случалось, на весь день исчезали, отдавая должное и кегельбану, и купанию в пруду, и просто неспешным прогулкам. Вечером все собирались на террасе, одинаково хорошей для танцев, представлений и большого чаепития. Один заезжий господин, написавший здесь два пейзажа, прощаясь, сказал с чувством: «Северная окраина, а как хороша! Я б у вас над входом крупными буквами написал «Сад-отель «Полярная звезда». Идея понравилась хозяину: он быстро прибросил, что расходы выйдут минимальными и решил приняться за дело не позднее, чем в середине будущего мая. А возвращение в город назначено было на 14 ноября. Накануне посадили в теплушку охрану, забили окна и раньше обычного отужинали. Но спалось Волкову в эту ночь плохо: садовые проекты набегали один на другой. Утром они казались уже фантасмагорией, но когда экипаж выезжал из Ремесленной слободы, вдруг, разом пришло решение — провести эту зиму «в Пальмире», обустраивая, приспосабливая её под сад-ресторан. Но лишь девять месяцев спустя Волков мог устало-торжественно продиктовать: «В воскресенье 20 августа 1906 года в Рабочей Слободе, на даче Волкова открывается загородный сад-ресторан «Полярная звезда». То, что лето семьи иркутских купцов проживают на дачах, известно было давно, но как именно проживают — знали очень не многие; до той самой поры, пока Евлампия Демидова не распахнула двери сада для благотворительного гуляния в пользу приюта арестантских детей. Было это в июне 1881 года, а семь лет спустя Владимир Платонович Сукачёв предложил свой приусадебный сад для прогулок воспитанницам Института Императора Николая I. Со временем и девушки «из простых» получили возможность здесь гулять, и в народе сад прозвали «Дунькиным». А в 1890 году и один из глазковских домовладельцев сделал широкий жест, открыв свои аллеи для публики. Общество иркутских велосипедистов, подавая заявку на земельный участок под циклодром, обещало обустроить здесь специальную зону для загородных прогулок — и слово сдержало. Особенно радовались окрестные жители; впрочем, это не помешало им уже в первую зиму превратить «Циклодром» в свалку и испещрить забор нецензурщиной. Но в мае появились жизнерадостные велосипедисты, без рассуждений дали средства на уборку, покраску, новые аттракционы (в том числе детские) — и публика снова устремилась сюда! Вход в «Циклодром» был бесплатным, исключая большие праздники, когда заказывалась специальная программа. Но, разумеется, были и охотники «развести в садочках коммерцию»; так, весной 1896 года в одном из дворов на Преображенской улице между деревьями натянули навес, наняли шансонеток, назвали всё это садом «Кинь грусть!» и послали в газету объявление. В 1904 году, когда вся печать давала сообщения о Порт Артуре, название это закрепилось за весьма заурядной площадкой в центре города, на которой продавали разного рода напитки. Торговля шла не очень бойкая, и застоявшиеся бутыли нередко опрокидывали на обочину — к большому огорчению ближайших домовладельцев. Когда же этот угол стали называть «Порт Артур», явились и скамьи, и новая ограда с калиткой, открывавшейся в ранний час, когда все другие сады ещё спали. Наконец, «Порт Артур» обзавёлся и собственным воздушным шаром. Но всё же главным и, действительно, общегородским садом оставался Синельниковский, созданный в бытность иркутским генерал-губернатором Николая Петровича Синельникова. Этот редкий и для той поры государственный деятель всюду оставлял после себя школы, театры, сады; и в Иркутске он сразу же обратил внимание на пустующую площадку на Институтской улице, между интендантством и губернаторским домом. В мае 1871 года здесь начали разбивать сад. Для удешевления работ использовали труд арестантов, но расходы вышли всё же немалые. Часть них взяла на себя городская управа, часть — сословные общества, но всё же основные вложения сделали коммерсанты Яков Немчинов (6050 рублей) и Иван Базанов (19661 рублей 57 копейки). Сад вышел вполне европейский, а на прилегающей к нему улице открылась самая большая в городе извозчичья биржа. Плату за место установили одну из самых высоких (10 рублей за сезон), но и пассажиров ведь было много — только успевай подавать! Особенно после 5 августа, когда начинались холодные вечера. Каждое лето Синельниковский сад (отчего-то чаще называемый Интендантским) отдавался новому арендатору, и он непременно делал какое-нибудь улучшение: скажем, ставил особо красивые фонари, усиливал свет на буфетной веранде, заказывал оригинальный аттракцион и т. д. Особо пышными гуляниями отличались «царские дни», например, приходившееся на конец августа тезоименитство Государя Императора. При этом и в прилегающих к саду домах не стеснялись выражать свои чувства — вывешивали флаги, украшали входы царскими вензелями и старательно освещали их. Сад имел два входа: центральный (наискосок от Большой), и со стороны Ушаковки; а также и несколько калиток, удобных для жителей Знаменского предместья и Рабочей слободы, но доставлявших много хлопот администрации: на садовых клумбах иногда пасся скот, а неподалёку, в кустах, «отдыхали» его нетрезвые хозяева. Свободный вход объявлялся, как правило, три дня в неделю; билеты не спрашивали и в особо тожественные дни, скажем, в годовщины посещения Иркутска членами императорской фамилии. В «бесплатные дни» да при хорошей погоде и на глухих аллеях было не протолкнуться, поэтому состоятельная публика предпочитала платить. Но и это не защищало от колонны ассенизаторов, появлявшейся сразу после девяти часов вечера. Администрация ещё на подступах к саду встречала их и умоляла свернуть на соседнюю улицу, но возницы резонно замечали, что оттуда их гонят и бьют. При всём том арендаторы предпочитали иметь дело с «платной публикой» и при всякой возможности сокращали дни свободного доступа в сад. Коммерсант Коршунов регулярно слал в управу слезницы о том, как «трудно при одном платном гулянии в неделю сводить концы с концами». Кроме того, добавлял он, «в платные дни не бывает скандалов, а в бесплатные — сколько угодно, и не прислушаться ли к голосу интеллигенции, желающей оградить себя от сермяжной публики увеличением платных дней?» Но увлёкшись коммерческими расчетами, Коршунов не учёл революционную атмосферу той поры — и немедленно попал под обстрел демократически настроенной прессы»! Впрочем, и в другие, спокойные времена находились охотники приструнить арендаторов с помощью печати. Чтобы вытрясти из карманов публики вожделенную денежку, коммерсанты приглашали цирковые труппы, антрепризы, ставившие мелодраму и фарс. В июле 1897 года во вновь отстроенном Летнем театре давали «Паяцев» и «Фауста». Это был довольно рискованный ход, но в саду находилась летняя резиденция иркутского Общественного собрания, и билеты тотчас же разошлись. Видя это, господа оркестранты подготовили попурри из опер — и получили заслуженные аплодисменты. А антрепренёр Кравченко решился поставить в городском театре несколько оперных спектаклей. Каждое лето случались несколько дней, когда весёлое слово «лотерея-аллегри» разносилось по городу. И все начинали ждать чуда, даже администрация сада, которой от лотерей не было никакого прока, ведь доходы шли исключительно мимо кассы — на благотворительность. Но при этом было так интересно! В саду, на время выпущенном из рук, начинались сказочные превращения, он изменялся до неузнаваемости, и взрослые, едва войдя сюда, превращались в детей — покупали втридорога безделушки, играли в садовую почту и телеграф. В августовскую лотерею 1904 года один солидный господин отправил с главной аллеи «молнию» буфетчику, заказав приготовить форшмак не позднее, чем через полчаса. И в назначенное время явился в сопровождении весёлой компании. Форшмак был готов. Этот день принёс в кассу Пожарного общества более 4000 рублей — к огромной зависти арендатора сада Коршунова. Тот даже задумал переманить кого-нибудь из организаторов и начал с антрепренёра Вольского. Николай Иванович честно попробовал, но увлекся — и «Большое гуляние по доступным ценам» обернулась благотворительным вечером в пользу раненых. Вечер, правда, получился великолепный, с комедией «На манёврах», тремя оркестрами, капеллой Бедросова и песенниками казачьей сотни. Конфетти бросалось щедрой рукой, публика танцевала до упаду, а под занавес вечера прямо на пруд опустился воздушный шар. Как показывает история, настоящая, долгая жизнь суждена садам и паркам, рождённым движением души. Так было и с Екатерино-Иванинским сквером, задуманным статским советником Сиверсом после смерти жены, Екатерины Ивановны. И с садом «Циклодром», и с Сукачёвским сквером. Владимир Платонович, всячески проводивший идею благоустройства по европейскому образцу, часто «правил» бюджет из собственного кармана. В 1894 году он дал 10 тысяч рублей на разбивку сквера между Спасской церковью и Ангарой. Работы были начаты 1 сентября, а 4 октября брандмейстер Мякинин пригласил городскую управу на торжественный пуск пожарной водокачки, построенной по зарубежным образцам. Объявлено было, что в первую же минуту после пуска будет выдано 18 вёдер воды, однако обещанную порцию пришлось ждать полчаса. Члены управы, отправлявшие г-на Мякинина в зарубежную командировку, смущённо переглядывались, о самом Мякинине было нечего и говорить. И только городской голова оказался доволен и объявил, что, раз так вышло, водокачку лучше использовать для поливки посаженных рядом деревьев. Два года спустя брандмейстер добился-таки проектной мощности водокачки, но к тому времени Сукачёвский сквера уже окреп. Кутайсовы 21 ноября 1905 года в Общественном собрании состоялся концерт и танцевальный вечер в пользу иркутского Благотворительного общества «Утоли моя печали». Патронесса общества, супруга генерал-губернатора Кутайсова на этот раз отсутствовала, и на благотворительном вечере её представляли губернский чиновник Пророков, адвокат Стравинский и жена горного инженера госпожа Янчуковская. Все трое казались весьма озадаченными. Причиной был предстоящий отъезд Кутайсовых, ведь из добровольных помощников графини Ольги Васильевны эти трое разом превращались в ответственных за содержание двух сиротских приютов, двух богаделен и столовой для бедных. В тревожной растерянности пребывало и правление Общества покровительства животным, до сего дня ведомое супругой начальника края. Кутайсовы с их европейским образом жизни нашли в Иркутске немало подражателей: стало хорошим тоном, отправляясь с семьёй в фотографию, брать собаку и усаживать её на переднем плане. Из дома генерал-губернатора пошла гулять по гостиным и идея покровительства слабым; конечно, это, внешнее веяние ещё не вызывало внутренних токов, но уже давало приятное ощущение собственной цивилизованности. И за прощальным чаем у графини гости сыпали обещаниями «продолжить прекрасно начатое, и не только продолжить, но и развить». И, кажется, сами верили этому. Отставка мужа и их предстоящий отъезд из Иркутска оказались болезненными для Ольги Васильевны: она знала, что в Петербурге граф немедленно погрузится в дела — её же собственное существование с отъездом из Иркутска изменится бесповоротно. Все надежды, проекты, возможности оставались здесь, вместе с вновь обретёнными единомышленниками, помощниками и просто очень интересными людьми. В Иркутске доживали ещё корифеи, составившие когда-то основу местного общества; особенно сблизилась графиня с супругами Бутиными, не пропускавшими ни одного собрания Общества покровительства животным. Михаила Дмитриевича называли сибирским американцем, но Ольга Васильевна увидела в нём совершенно иной, куда более широкий тип. В бытность Кутайсовых в Иркутске Бутин проживал за театром, в собственном небольшом, но стильном доме, состоял почётным попечителем Промышленного училища, товарищем председателя Братства помощи бедным воспитанникам духовной семинарии. Училище было замечательно обеспечено, братство построило для своих подопечных специальное общежитие, выделяло пособия (большей частью, безвозвратные), покупало учебники — и Ольга Васильевна полагала, что Михаил Дмитриевич — удачливый коммерсант, а оказалось, что его имущество под арестом. Однако одновременно с предъявлением исков шло выдвижение «банкрота Бутина» на должность гласного Иркутской думы и даже городского головы. Ольга Васильевна всегда тяготела к неординарному, в своё время и граф увлёк её своей незаурядной натурой. Хоть, конечно, решали родители — Василий Андреевич Дашков, действительный тайный советник, гофмейстер, основатель московского музея этнографии, и Елизавета Андреевна, представительница известного рода Горчаковых. Ольга Васильевна была единственным ребёнком в семье, унаследовала лучшее и смогла применить его — столько, сколько позволили обстоятельства. И теперь, напоследок, хотела «сделать ещё что-нибудь». 19 ноября «Иркутские губернские ведомости» сообщили о начале детских пожертвований маленьким сахалинцам, проезжающим через Иркутск. 20 ноября в земледельческой колонии малолетних преступников открылись религиозно-нравственные чтения, и Ольга Васильевна, как обычно, без звонка подъехала туда вместе с графом. 21 ноября в Общественном собрании состоялся благотворительный вечер. Жёны генерал-губернаторов, как все первые дамы, несли обязанность открывать балы. Кроме того, предполагалось, что они опекают благотворительные организации; впрочем, степень участия была разной и во многом зависела от персоны. Что до Ольги Васильевны, то ещё в бытность нижегородской губернаторшей она прослыла «заводящей моду на благотворительность» и оставила после себя образцовый детский приют, впоследствии получивший её имя. С той поры прошло тридцать лет, к энергии прибавился опыт, связи, что весьма и весьма пригодилось ей в роли хозяйки огромного края. Идея смягчения нравов, с давних пор занимавшая её, обрела реальные очертания, и даже граф Павел Ипполитович отмечал, что её два года в Сибири более осязаемы, чем его: «Ты открывала и строила — я же только ограждал и микшировал». Генерал от инфантерии, военный резидент в Поддоне, граф Кутайсов оказался в Иркутске в суетливое время и занимался обыденной и невидной работой — расквартированием войск, размещением раненых, обеспечением продовольствием и дровами, предотвращением эпидемий, забастовок, вооружённых столкновений. И ему удалось уберечь огромный край и от голода, и от чумы, и от холеры, и от большого кровопролития. Тактика мягкого сдерживания (с одной стороны, Петербурга, а с другой — оппозиции на местах) спасла много жизней, отвела много бед. Под влиянием графа микшировали и подчинённые ему красноярский и забайкальский губернаторы. Все трое лишились за это постов, в отставку отправили и графа Кутайсова; правда, заслуги его были столь очевидны, что даже «увольнение в 24 часа» в окончательной формулировке прозвучало как откомандирование к исполнению обязанностей члена Государственного Совета. В Иркутске вскоре после отъезда Кутайсовых начались погромы. убили помощника полицмейстера, ранили вице-губернатора. С большим трудом Гондатти, ставленнику Кутайсова, удалось уберечь город от кровавых расправ карательных отрядов. В середине марта 1906 года графиня получила письмо от одной из дам своего иркутского кружка с подробнейшим описанием прошедшей зимы, «которая, к счастью, так и не началась для вас. Но, может статься, была б не такой суровой, если бы Ваши сиятельства оставались с нами». Растроганная, Ольга Васильевна открыла иркутский сак и достала номер «Иркутских губернских ведомостей» с прощальным обращением графа: «Жалко расставаться с Иркутском и со всем этим чудным краем; я от всей души его полюбил, верой и правдой служил его интересам и близко к сердцу принимал его нужды. Связи с ним я не прерву, и вдали он для меня останется своим и точно таким же близким, как был он здесь. Член Государственного Совета, Сенатор, Почётный опекун, генерал от инфантерии граф Кутайсов». Кондратова шинель 5 декабря 1905 года на вокзале висело объявление от 2 декабря, написанное на половинке листа синим карандашом: «Сим объявляется публике и пассажирам, что на Россию отправятся 3 и 11 поезда. Начальник станции Иркутск». Было совершенно не ясно, ушли эти поезда или только собираются уходить. Обросший недельной щетиной солдат лет тридцати пошёл справиться «в контору». Пожилой служащий вышел с ним в зал и снял объявление: — В войну ходило десять поездов, а теперь, дай Бог, четыре, — он задумался и добавил с натянутой бодростью, — движение восстанавливается, Иркутск не будет отрезан от России. — Стало быть, нынче поезд? — оживился солдат. — Нынче никак. Кондрат чертыхнулся — ох, как не хотелось ему возвращаться к родственникам в Знаменское предместье. «Дядя» Семён (первый муж свояченицы) и сам-то жил в небольшом флигельке, с молодой женой и двойняшками-семилетками. Парнишки то и дело задирали друг друга, а женщина всё время жаловалась на них, на мужа, на непомерно дорогую крупчатку, на то, что банщик запрещает стирать бельё... Спал Кондрат на полу, укрывшись шинелью. Он и не стал бы беспокоить дальнюю родню, но в Иркутске случилась вынужденная остановка — возвращающиеся с востока нижние чины получали здесь «кормовые» на дальнейший путь. За деньгами нужно было явиться к уездному воинскому начальнику, но его управление было на правом берегу Ангары, а вокзал — на левом. Ангара не встала ещё, а понтон уже развели; переправлялись на баркасах, но из-за большого тумана они шли самым тихим ходом, то и дело пересвистываясь с берегом, чтобы не заблудиться. Или же звонили в колокол. Солдатиков, мёрзнувших на берегу в очереди, заманивали лодочники: — Поплыли-ка лучше с нами, служилые, а то ведь баркасы— то налетают в тумане один на другой, а пароход «Ермак» зафрахтован аж за 180 рубликов в один день — чуете, сколько встанет билетик? Да и не пристать ему: все мостки посгорали... Но Кондрату на лодке было никак нельзя: на иркутском вокзале нет багажного отделения, а у него трофейный мешок — ну как утонет! Пришлось выстоять длинную очередь на баркас и уже вечером добраться до правого берега. Ждать обратной переправы уже не было сил — и Кондрат побрёл на Соловьёвскую улицу, и, согревшись, вздремнул у стола, даже не допив чай. Хозяйка возмущалась ещё, что воинские начальники не рассчитывают солдат прямо на станции Иннокентьевской, что билет на поезд надо выхаживать, а потом и с билетом ещё не сесть, потому что агенты сделали из посадки прибыльную статью. Она и ещё возмущалась, но Кондрат не слышал уже: и комната, и весь флигель отодвинулись, а рядом оказалась умершая мать в венке из каких то невиданных прежде цветов. Она молча позвала его, и Кондрат, к удивленью, поднялся. Тут флигель и вовсе исчез, зато появилась река; вроде как Ангара, только совсем не большая и не глубокая — мать просто опустила на воду шинель, и они поплыли на ней. Кондрат удивлялся, отчего это прежде он не догадался так плавать, и оглядывал берега, все зелёные. У вокзала он хотел уже выйти, но мать повела руками — и шинель понесла их к цветущему лугу. Тут Кондрат и понял, откуда венок у неё на голове. Только вот что смутило его: цветы совсем не пахли... Кондрат хотел спросить, почему, но рядом никого уже не было. И вокзал куда-то исчез... Проснувшись, Кондрат долго вдыхал родные шинельные запахи, а потом — запах лиственничной смолы на дровах у печки, квашеной капусты, с вечера оставленной на столе. Потом тихонько поднялся и пошёл на вокзал, уверенный, что уже не вернётся. На мостках у Московских ворот столпилась пешая публика; ниже, у самой переправы — множество подвод с товаром и без товара. Все ждали плашкоута, вглядываясь в морозный туман, а чтобы согреться, толкались и отплясывали трепака. Медленно, очень медленно туман рассеивался, и саженях в десяти от берега начал проступать долгожданный плашкоут. Но скоро все заметили, что он совсем не движется. — Чего стоим? — закричали с берега. — Того и стоим, что не едем! — хриплым пьяненьким голосом отвечал рулевой. — Значит, опять сломался, — заключил стоявший рядом с Кондратом мужчина неопределённого возраста, — придётся на буксире тащить, — он деловито отвязал лодку, а вслед за ним с берега спрыгнул и Кондрат. После многих попыток плашкоут подтянули-таки к пристани. Пассажиры стремительно сбежали на берег, а на их место хлынули новые мученики. — Стой! Куда прёшь?! Сломанная машина не пойдёт! — орал рулевой, но человек тридцать всё-таки остались ждать, остальные же пустились бежать вверх по течению — пробовать переправиться на баркасе. И Кондрат хотел с ними, но рулевой решительно ухватил его за рукав и втолкнул в крошечную будку. Здесь можно было только сидеть, но обитый войлоком стул с такою же утеплённою спинкой был очень удобен, и промокший Кондрат не только согрелся, но даже и поспал. День, меж тем, распогодился, рулевой протрезвел, повеселел и, открыв дверь, дружески потянул Кондрата наружу: — Больно лёгкая амуниция, погляжу. Тут в тулупе мёрзнешь, а на нём шинелишка — неужто в ней против японца ходил? — Очень она счастливая: за два года два раза от смерти ушёл — пульки-то только сукно порвали — и дальше полетели. С вокзала, убедившись, что поезда нынче не будет, он зашёл в ближайшую кухмистерскую. Щи были не то что пустые, но какие-то наспех изготовленные — как и всё в глазковских чайных, пивных, «номерах» и ночлежках. Сотни обывателей, живущих неподалёку от станции, предлагали проезжавшим недорогие и не очень качественные услуги — определяли на ночлег, кормили, обстирывали, утешали. Особенно много клиентов прибавилось осенью 1905 года, когда привокзальные улицы заполнили возвращающиеся с востока солдаты. Движение людей не прекращалось теперь ни днём, ни ночью; тем не менее, человеку в порядочном костюме и с багажом приходилось быть очень осторожным и не рассчитывать, что на крик «караул!» кто-нибудь прибежит — к таким крикам здесь привыкли, ставни закрывали засветло и спускали собак. Но об убийствах слышно не было — побаивались ночных обходов военных. В состав войск местного гарнизона включили прибывшие с востока 5-й Иркутский и 6-й Енисейский полки. Но ещё раньше город наполнили «фальшивые солдаты» из неприкаянной публики, прикупавшей за бесценок шинели — чтоб бесплатно ехать по железной дороге или заметать следы собственных преступлений. И иркутские нищие охотно принимали образ фронтовиков, и мошенники, промышлявшие «Греческой пирамидкой», «Волчком на блюдце» и другими ловушками для простаков. Кондрат, понаблюдав за такой «игрой», ухватил подставного солдатика за рукав — и сейчас же два других набросились на него, угрожая ножами. Хорошо, что квартальный вовремя подоспел. Проводив Кондрата до угла, он отечески посоветовал «не воевать»: — В городе неспокойно, выборы в городскую думу, и те перенесли. На 1 Иерусалимской один господин ни с того, ни с сего расстрелял извозчика, а на главной площади какой-то субъект устроил «салютацию» из револьвера. Три ночи Кондрат отночевал в просторной кучерской, у хорошего человека, с которым и свёл его тот квартальный. Одно плохо: кучерская на правом берегу, а у Кондрата и билет уж был на руках, и он два раза в день мотался туда-сюда узнавать насчёт поезда. Кончилось же тем, что снял он всё-таки угол рядом с железнодорожным депо. А в ночь на 13 декабря эта небольшая построечка, высушенная временем, вспыхнула от случайно брошенного окурка и сгорела вместе с рабочим, давшим Кондрату приют. Сам солдат уцелел потому лишь, что задержался в харчевне — там он встретил однополчанина Савелия Лутовского. Тот был навеселе уже, размахивал вилкой и грозил «перецепить паровоз с пассажирского на воинский». Такие угрозы возвращавшихся с фронта Кондрат слышал не раз: во время долгих ожиданий на станциях из-за нехватки паровозов солдатики выходили на пути и шумели перед каким-нибудь пассажирским поездом. Но, сбросив раздражение, успокаивались, и ещё не было случая, чтоб привели угрозу в исполнение. Вот и Савелий хорохорился, выпуская пары. Кондрат дал ему прокричаться и пригласил переночевать у себя, но, вернувшись, нашёл лишь пепелище с торчащими паровозными трубами. Мешок с трофеями тоже сгорел. Ещё не понимая, что случилось, Кондрат побрёл по тёмной улице, не думая ни о чём. Уснул он в ночной лавке, не то грузинской, не то черкесской, и проснулся уже часов в десять, от рёва толпы. Оказалось: рано утром пастух, гнавший стадо неподалёку, натолкнулся на чей-то труп в солдатской шинели. Сбежался народ, хозяина лавки выволокли на улицу, и, когда б не квартальный, то, верно, и растерзали бы. За какой-то час лавку всю разгромили, выпили вино и ревущей, визжащей и ширящейся лавиной понеслись дальше. Квартальный велел Кондрату проскочить огородами до ближайшей лавки и «упредить». Но самому не вмешиваться, ждать, пока подоспеют войска. ...В хронике происшествий этого дня сообщалось, что в Глазковском предместье были затоптаны в снег два торговца, два члена их семьи и солдат с билетом на поезд номер одиннадцать. До его отправления оставалось несколько часов. А в апреле, когда выпал по-летнему жаркий день, на задворках одной из кухмистерских проступил из-под снега обрывок шинели с двумя ровными дырочками от пуль. Святки с запахом пороха из разлук Урок музыки у мадам Брюно начинался ровно в девять, но она требовала, чтобы все ученицы съезжались уже в восемь тридцать — чтобы успеть согреть пальцы и сосредоточиться. Брюно была педантична, как и её предшественник, господин Стерн, и, наверное, это было неплохо, но, просыпаясь рано утром, Катя Зонина почти с отчаяньем думала, что идти до квартиры Брюно долго, страшно и холодно, а лошадь уж неделю как хромает. Отец договорился с Глембовски— ми, и они подвозили Катю, но до их квартиры на Ивановской надо было ещё дойти, в темноте и тумане... В конце августа, когда в школе Брюно начались уроки, можно было выбирать между утренними и вечерними занятиями, и Катя с Соней Глембовской часа в три пополудни не спеша отправлялись по Большой, ловя в зеркальных витринах свои отражения и восхищённые взгляды прохожих. Заглядывали в какой-нибудь магазин или в кондитерскую Ходкевича, а потом сворачивали на Амурскую и всё тем же прогулочным шагом доходили до Баснинской. Но с конца сентября, когда стало рано темнеть, пришлось перенести уроки на утро. 14 октября, когда объявили всеобщую забастовку и всё, действительно, встало, Катя велела запрягать и захватив по дороге Соню Глембовскую, окольными путями добралась до квартиры учительницы. Все уже были в сборе; точно так же никто не пропустил занятия 15, 16 и 17 октября. После, когда Брюно узнала из газет, что в «октябрьские дни» были жертвы, она растроганно-виновато спросила: «Вы очень боялись, да?» Несмотря на «события», город усыпало снегом, ударили морозцы, а потом наступила оттепель, за которой незаметно подкрался декабрь. До Рождества оставались ещё три недели, а молодые люди уже ходили с надушенными платками («Рейнские букеты, № 4711). В разгар забастовки до Иркутска невесть как добрался коммерсант Гутман, с большим грузом пиявок и не меньшей верой, что именно в них сейчас самая большая нужда. Предприниматель Чепин под «аккомпанемент» доносящихся выстрелов прибил на фасаде дома на Луговой вывеску «Фотография» и торжественно, через «Иркутские губернские ведомости» объявил: «Как бывший помощник придворного фотографа Трунова, льщу надеждой на внимание к себе публики». По этому поводу отец Кати, Алексей Иванович, даже высказался: «Оптимизм сих господ впечатляет не меньше, чем их пиявки и фотокарточки». В магазине Воллернера стояла весёлая толкотня. Катя обошла его весь, выбирая подарки, но нисколько не устала. А когда вернулась домой, её ждал сюрприз — духи «Фру-Фру» с короткой запиской «С Рождеством Христовым! Владимир». Он опять уезжал, пробыв в Иркутске только два дня. Один из них был отдан родителям, а половинку другого они с Катей и Соней Глембовской гуляли по городу. Когда проходили мимо фотографии Чепина на Луговой, владелец, стоявший на крыльце, жестом пригласил их войти. За готовыми снимками они с Володей положили непременно прийти вместе, ведь через две недели он обещал быть в Иркутске опять. А сегодня Кате так хотелось поговорить о Володе с мамой, но Нина Андреевна всё никак не могла расстаться с приятельницей, сидевшей в гостиной и повторявшей те же скучные вещи, что и вчера: оприслуге, что «даже в хороших домах революционизировалась и перестала быть вежливой», об индейках, которых к Рождеству привезли много меньше обыкновенного, о том, что в центральных банях открылись женские дворянские номера — единственная отрада к празднику. Катя прошла в кабинет к отцу, но Алексей Иванович был занят, как обычно, и, торопливо улыбнувшись, передал ей газету с рождественским репертуаром. И Катя, тихонько устроившись в кресле, стала читать. И узнала, что на сегодняшний день заявлены были два спектакля, а вечером — костюмированный бал. Дальше шли сеансы синематографа, благотворительные и просто спектакли и, конечно, балы, на которых Катя могла бы блеснуть двумя новыми платьями, сшитыми в эту осень. Правда, к ним надо бы ещё подобрать японский веер или шёлковый пояс. На платформе железнодорожного вокзала каждый день разворачивался импровизированный базар — возвращающиеся с Дальнего Востока солдаты продавали замечательные вещицы, и совершенно дёшево. То же самое, но уже дороже, можно было увидеть на Мелочном базаре, но при нынешних опасностях Катеньку даже и с подругами не пускали туда. Просить же отца о сопровождении она не решалась после вчерашнего вечера. А вчера у Зониных были гости, и так совпало, что разговор пошёл о восточных влияниях. Оказалось, что у каждого в квартире составилась целая коллекция из японских вещей. Алексей Иванович отмалчивался, но едва лишь гости ушли, выстрелил язвительным монологом: — Главным следствием русско-японской войны у нас стала мода на восточные безделушки — их продают на каждом углу, ими уставляют гостиные, спальни, кухни и дворницкие, ими расцвечивают уже и скучные умные разговоры. Так нужно ли удивляться, что в Иркутске сейчас политический кризис: отставленный генерал-губернатор отбыл, а новый не назначен?! Исполнять обязанности должен начальник Иркутской губернии, но он сказался больным, как и городской полицмейстер, А куда же делся помощник иркутского полицмейстера Драгомиров? А он, оказывается, «внезапно скончался» — хоть все знают, что Драгомиров убит. — А куда же исчез Кальмеер? — спросила Нина Андреевна, явно желавшая увести разговор в менее опасное русло. — У него в магазине сейчас фантастическая распродажа — притом, что в газетах о ней не было никаких объявлений. Но главное, что самого Романа Семёновича совершенно не видно ни за прилавком, ни в зале, да и к квартирному телефону он, говорят, не подходит. — Всего вероятней, что достал-таки он разрешение на билет и сейчас уже подъезжает к Германии. Ну, или к Франции. А где-нибудь в соседнем вагоне и другие «исчезнувшие иркутяне»: коммерсант Поляков, гласный думы Первунинский и редактор «Восточного обозрения» Попов. Под занавес Рождества в Иркутске ввели военное положение, хоть новогодние празднества по инерции продолжались, и ещё 6 января в Общественном собрании прошёл бал-маскарад, на котором было немало карикатур на нового генерал-губернатора Алексеева. А 5 января у Зониных объявился Владимир, необычно взволнованный. Он вернулся из Москвы, переполненный впечатлениями и. революционным пылом: — Наше чиновничество утратило всяческую способность к здравомыслию: с запада продолжают идти военные поезда. То есть, на несуществующий фронт поступают и поступают патроны, ружья, сапёрные инструменты, рельсы для военно-полевых дорог. А всё потому лишь, что в Петербурге какой-то канцелярист никак не решится напомнить рассеянному начальству об устаревшей «галочке». И ещё удивляются, что народ бастует, и не могут понять, почему! Кстати, на всём пути до Иркутска я видел оскудевшие станции, но люди на них говорили: мы потерпим, ведь когда установится Конституция, жизнь пойдёт легко и красиво. — Для низших агентов железной дороги, может быть, и простительно так рассуждать, — не сдержался Алексей Иванович, — но Вам-то, образованному молодому человеку, должно знать, что забастовка ударяет вовсе не по правительству, а по обществу в целом. Потому что «поднять всем зарплату» можно только ценой всеобщего ухудшения жизни. У вас на железной дороге минувший год закончен, как известно, с большим дефицитом, а всё почему? Да потому, что управление под угрозой забастовки сняло всяческие ограничения на оплату — и этим тут же воспользовались: все мастеровые затребовали прибавку в 50 %, причём совершенно независимо от результатов труда. И рабочие низкой квалификации беспардонно переместились в высшую категорию, с соответствующим повышением окладов. И вот результат: съели больше, чем заработали, и без отказа от задранных ставок («завоеваний революции») невозможно гарантировать самые обыкновенные выплаты. А вы призываете бастовать, «вплоть до самой победы». — Что есть вся ваша жизнь как не выстраивание бессмысленных нагромождений из цифр, из-за которых вам никогда уж не разглядеть исконных человеческих устремлений! Давно замечено: за конкретную пользу всегда ратуют те, кто не способен понять «бесполезных абстракций», хоть на них, в сущности, и держится всё человеческое сообщество. — А на каких именно абстракциях держится? — Товарищеская солидарность, например. — О-о-о, какого же я дал маху — не принял в расчёт такую важнейшую составляющую! Виноват-с, виноват-с, разрешите исправиться и дать Вам свежий пример высокой товарищеской солидарности. В одном из местных страховых обществ напился пьян курьер и начал куролесить: порвал важную бумагу, разогнал клиентов из приёмной. Начальство решило его уволить, но «товарищи» из «солидарности» постановили. запить все. Это так подействовало на начальство, что виновник событий был оставлен на месте. Да здравствует солидарность? Катя с изумлением смотрела то на отца, то на Владимира, сделавшегося красным и зачем-то доставшего револьвер. Он размахивал им и казался теперь мальчиком, захотевшим всех напугать. Кате стало стыдно, а Алексей Иванович, напротив, успокоился и разочарованно подытожил: — Признаться, имел надежду услыхать от Вас настоящие аргументы; ну, а это (выразительный взгляд на нелепо торчащий из кармана револьвер) — всего лишь средство обороны, и совсем от других господ. В конце января Владимир вместе с родителями и уже окончательно покинул Иркутск. В феврале Катя с Соней сходили в фотографию Чепина, но снимков уже не было там: — Симпатичный молодой человек всё забрал. Он и квитанцию предъявил, так что не имейте претензий. Три года спустя, когда Зонины возвратились в Москву, Катя несколько раз видела Владимира, но издали. А потом они вдруг столкнулись лицом к лицу — и взгляд его скользнул мимо. Вернувшись домой, она достала из шкатулки «Фру-Фру». Флакон был прохладный и не согревался в ладонях. Танцы на расходящемся паркете С середины января в городской театр, наконец, потянулись зрители, и прощальные спектакли (сезон заканчивался как обычно — в середине февраля) проходили уже с аншлагами. Публика, всю осень и начало зимы сохранявшая сдержанность даже в бенефисы, теперь усыпала артистов подарками. И как бы не замечала уже наряда полиции, постоянно дежурившего в фойе. — Вот мы и приспособились жить на военном положении, — язвительно заключил Алексей Иванович Зонин. — У нас теперь и на Большой образцовый порядок: извозчики никого не сминают, строго держатся правой стороны и тянутся, как в обозе. Кра-со-та, и всё по причине военного положения! О том, что в Сибири введено военное положение, иркутские власти узнали в канун нового, 1906 года. Последние номера газет уже вышли, обыватель, уставший от забастовок и митингов, окунулся в праздничную суету — и несколько дней город не хотел принимать очевидного. У Зониных, всегда живших уютно и открыто, было особенно многолюдно и весело, но едва Алексей Иванович появился в присутствии, как уже в коридоре услышал об арестах и высылках. Первой мыслью мелькнуло: «А как быть с револьвером?» Ношение оружия грозило теперь тюремным заключением, однако и перспектива сдать его воинскому начальнику не привлекала: в Иркутске и в спокойные времена приходилось «держать оборону», не расставаясь с револьвером даже дома. Вместе с другими чиновниками из губернского управления Алексей Иванович решил выхлопотать себе разрешение на оружие. Но и на групповое ходатайство был получен решительный и бесповоротный отказ, а вечером того же дня в квартиру Зониных ворвался домовладелец, требуя у гостей паспорта. Алексей Иванович сначала растерялся от неожиданности, но потом, конечно же, дал отпор. Уязвлённый домохозяин вызвал полицию, но, к счастью, приехал городовой, знавший всех зонинских гостей. Для порядка он, конечно, заглянул в паспорта, но уж после этого настоятельно попросил «не беспокоить полицию по пустякам». А едва лишь гости разошлись, Алексей Иванович бросился к ящику с пистолетом: «Сдаст, непременно сдаст! Завтра прямо с утра отправляюсь к воинскому начальнику»! Этой ночью, ходя из угла в угол кабинета, Зонин размышлял о превратностях стремительной меняющейся жизни, всё более странной и противоречивой. Недавно ему вручили высочайше пожалованный орден святого Станислава, и по этому поводу были, разумеется, поздравления; но он всё думал тоскливо: «Жизнь идёт своим чередом, а монаршии награды — своим, может быть, уже против течения. В самом деле: Манифестом 17 октября всем дарованы были свободы, а два месяца спустя снаряжались уже карательные экспедиции. Сейчас вся Сибирь на военном положении, идут аресты и высылки, но при этом от сибиряков ждут свободного волеизъявления при избрании Государственной Думы. В каком-то заведомо ложном положении оказалась теперь и вся бюрократическая машина с огромной массой чиновников и приравненных к ним служащих казённых предприятий. В недавнем постановлении Совета министров как бы выказана политическая терпимость: разрешено участие служащих в политических партиях, исключая «стремящиеся к разрушению существующего государственного строя». А какой именно строй следует полагать существующим? Год назад такого вопроса не возникало, но теперь, после Манифеста 17 октября, правовое пространство сделалось исключительно неопределённым: старые законы, противоречащие октябрьским нововведениям, не отменены — на что же именно следует опираться? «Berliner Tageblatt» пишет, что «политическая реакция в России создаёт большое предложение денег за границей и их обесценивание». А петербургские и московские издания уточняют: только за ноябрь-декабрь 1905 года сберкассами выдано свыше 100 миллионов рублей. И в Иркутске семьи со средствами отъезжают за границу. Крупнейший домовладелец Файнберг постепенно переправляет в Европу детей; вероятно, вывозит, и капиталы. Он и сам недавно отъехал — в разведку, судя по всему. Уехал бы, верно, и насовсем, но трудно сейчас с выгодою продать недвижимое имущество. Впрочем, это всё заботы господ, обременённых капиталами, его же, статского советника Зонина, дело — дослужить оставшееся, получить положенное и поселиться на старости где-нибудь в Московской губернии. Или просто поближе к дочери, когда она выйдет замуж. Но это позже, потом, как-нибудь, а пока пусть Катенька помечтает ещё, потанцует. Кстати, надо выдать Нине Андреевне денег на бального парикмахера». Известный в столицах мастер Константин Шиллер прибыл «причёсывать дам и барышень специально для бала». Он принимал на Большой, в салоне Розенбаума, украсив импровизированную витрину всевозможными фронами, крепонами, трансфамасионами и шиньонами из заграничного волоса. — Поверьте, без них невозможна настоящая «бальная голова». А косы и валики, как у вашего Гутмана на Ивановской, не носят даже в самых глухих провинциях, не говоря уже о Москве, — заговорщически сообщал Шиллер, широко улыбался и щедро сыпал комплиментами. Старый приятель Розенбаум давно уже зазывал его на «гастроли» в Иркутск, обольщал гонорарами, на которые не скупятся-де маменьки засидевшихся барышень. Говорил и о том, что иркутские дамы в одно время с московскими, ещё в 1901 году перешли от горячих щипцов к холодным гофрированным приборам, дающим «волны» различной величины. Что в короткие периоды застоя парикмахеры с успехом приторговывают парфюмерией, а также галстуками, запонками, мужскими и женскими воротничками. А в канун Рождества и Нового года неплохо зарабатывают на гриме и прокате маскарадных бород, париков и костюмов. Оглядевшись в Иркутске, Шиллер понял, что даже война с Японией оказалась прибыльной для цирюльных дел мастеров: запасные полки, стоявшие в Иркутске, раз в месяц выстраивались в длинную очередь, а сколько останавливалось в Иркутске офицерских чинов! Но самой большой находкой стало издание несколькими парикмахерскими карты Японии с рекламой собственных услуг на обороте. Вплоть до заключения мира эта карта-реклама пользовалась успехом, и каждый, получая её в подарок, считал своим долгом постричься или сделать укладку. И всё-таки, всё-таки Шиллер не забрался бы так далеко, если бы не революция: весь декабрь 1905 года он просидел без работы (казалось, москвичи перестали стричься, и бриться) и, натурально, бежал в Сибирь. Розенбаум предупредительно встретил Шиллера на вокзале, правда, выглядел довольно растерянным и всю дорогу до дома жаловался на мастеров, «заделавшихся революционерами». — До того уж дошло, что вынужден был подать в газету объявление, — вздохнул он, протягивая приятелю свежий номер с обведённым абзацем: «Извещаю уважаемую публику, что с февраля 1906 года мастера состоят участниками в моём деле». Шиллер тоже, в дороге ещё, приготовил текст объявления, и главным в нём был акцент на краткости пребывания уникального мастера в этом провинциальном городе. — Ну, эта уловка здесь не нова, и никто уж не попадается, — усмехнулся Розенбаум. — К тому же тебя обогнал карательный поезд господина Ренненкампфа, и после организованных им арестов и высылок мы не досчитываемся очень многих клиентов из докторов, инженеров, учителей и чиновников. Да, и первые же из нынешних балов показали, что танцевать-то не с кем! Генерал Ренненкампф словно бы отбирал всех лучших. Публики хватало, но это была именно публика. Немного оживил обстановку генерал-майор Эльрих, командированный из Петербурга для наблюдения за эвакуацией раненых, да ещё три-четыре танцующих чина. К 10 февраля Ренненкампф, наконец, уехал в Читу, но и балы к тому времени почти кончились. Под самый занавес уже прибыли иркутяне — студенты Томского технологического института: — Все занятия отменили из-за митингов. Надо было нам искать деньги, оформлять заграничный отпуска да и пере— веводиться в германские и швейцарские политехникумы. Но пока мы решались, для поездок в западном направлении стали требовать свидетельство о политической благонадёжности. Теперь год потерян, да и городская дума наверняка вытребует обратно своё пособие. Но что делать, время такое. А в Иркутске мы хотя бы натанцуемся до упаду! К нынешним балам в Иркутске готовили, как обычно, учитель танцев Ковалёв и менее известный, но всё же пользующийся успехом господин Кац, арендовавший под уроки большой зал на углу 5 Солдатской и Власовского переулка. Ковалёв, чувствуя конкуренцию, сделал ставку на новейшие: «Гейшу», «Модерн», «Экспромт», «Фурор», «ХХ столетие». И студенты Томского технологического даже растерялись, поняв, «как отстали от нового поколения бальной молодёжи Иркутска». Но танцевали всё равно до упада, как обещали, и очень развеселили милых барышень. Обычно после бала Катя Зонина долго не могла уснуть и вставала поздно, часов в одиннадцать. Но в этот раз пробуждение было лёгким, захотелось поскорее в гостиную, к чашке чая за дубовый столом, под стенными гамбургскими часами. Нина Андреевна сегодня принимала одну приезжую докторшу, открывающую в Иркутске педиатрический кабинет: — Коллеги рассказали мне, что в последнее время в Иркутске очень много новорождённых с уродствами, — только— только раздевшись, застрекотала она. — Такая же картина и в Москве, и мы, педиатры, считаем это следствием войны и революции. Подобное же явление наблюдалось и во Франции в известное время. Коротко говоря, не время теперь заводить семью, дорогая Нина Андреевна! Стрелки часов указали на десять, и раздался «Бом!» такой силы, что гостья вздрогнула и замолчала. А Катя воспользовалась заминкой, чтобы поднять крышку любимого «Беккера». Пляска жизни В театр Иван Александрович всё равно поехал бы — по многолетней привычке и просто как немолодой человек, бегущий от настигающих по вечерам грустных мыслей. Однако и сам спектакль интересовал его — названием, близким нынешнему ощущению пляски жизни, в которой выпало быть участником. Или жертвой? Нет, об этом он старался не думать — из извечной купеческой отстранённости от всего, что мешало делу. Иван Александрович вообще избегал тёмных мыслей, как избегал он полного досуга и отдыха, всегда рассеивая их между делами. И сегодня, добравшись до дивана, мгновенно уснул, а спустя каких-нибудь двадцать минут уже одевался, обновлённый и почти что весёлый. Миновав здание театра (площадка перед входом была ещё совершенно пуста), он остановился чуть дальше, на Детской площадке — там сегодня собиралась комиссия по внешкольному образованию. Все уже были в сборе и деловито осматривали столярную мастерскую, почти готовую к открытию. Но за видимой увлечённостью читалась растерянность, и нить разговора то и дело сворачивалась, образуя очередной узелок, пока, наконец, не коснулись того, что, действительно волновало, и не заговорили все разом. В ночь на 1 января председатель комиссии Аделаида Третьякова была арестована, а спустя несколько часов выслана из Иркутска. Все ждали её скорого возвращения и, даже выбирая нового, временного председателя, всячески подчёркивали, что «это — ненадолго, только до возвращения Аделаиды Эдуардовны». Как будто «высылка в 24 часа» означала недолгое и приятное путешествие. Телеграф нёс в Иркутск тревожные вести о карательных экспедициях во всех концах Российской империи, а иркутский обыватель изумлялся, как можно арестовывать такую энтузиастку как Третьякова и таких образованных и полезных господ как инженер Пальчинский, князь Андронников, доктор Писаревский и присяжный поверенный Орнштейн! Если кто и сохранял трезвый взгляд на мир, так это гласные городской думы, в большинстве своём предприниматели. В заседании 16 февраля, когда стало известно, что несколько членов управы арестованы, никто даже не задался вопросом, почему так произошло — просто сразу же проголосовали за помощь семьям, и не поскупились. Новая политика власти, названная в газетах «реакцией», имела лишь одну цель — усмирение, и Иван Александрович соглашался, что другим путём порядка не восстановить. Но беда в том, что ни один государственный институт и не помышлял о последующем умиротворении. А ведь нынче, когда даже псаломщики «творят» резолюции, «без оного снова будет надобность усмирять», как говаривал ему один батюшка в храме. «Если даже и у меня, искони торгового человека, зародились «политические сомнения», каково же должно быть иркутскому полицмейстеру Никольскому? Нет, нет, не случайно он в дни волнений сказался больным, а теперь вот даже и подаёт в отставку! А город-то, город-то как «повымело» весь: в Общественном собрании не досчитываются двух третей старшин, вместо присяжных поверенных принимают уже их помощники, преподавателей музыки пробуют заменить ассистенты, а с арестами докторов, может статься, будет некому подавать медицинскую помощь!» От этих невесёлых мыслей Ивана Александровича отвлек звонок сына: — Говорят, что Моллериусы возвращаются... «Да неужто? — Иван Александрович стремительно повернулся всем корпусом и из вороха газет ловко выхватил свежее «Сибирское обозрение». Заметка была названа осторожно — «Слух» и оказалась предельно короткой: Приезд назначенного иркутским губернатором И.П.Моллериуса ожидается в 20-х числах февраля 1906 года». От этих строк на Мыльникова повеяло прежней, казалось, навсегда утраченной жизнью — устойчивой, неспешной и добропорядочной. Иван Петрович Моллериус поднаторел в чиновном делопроизводстве, возглавляя канцелярию генерал-губернатора, но удивительным образом не утратил чувствительности и во всякой бумаге сразу схватывал равнодушие, бессмыслицу и просто глупость людскую — и боролся с ними, как мог. В первую же поездку по губернии его поразило, как много детей погибает в реках, прудах и просто незакрытых колодцах — и он с готовностью возглавил местное Общество спасения на водах. Во всю бытность в Иркутске (кажется, ещё со второй половины восьмидесятых годов) он не навязчиво, но на редкость заразительно подавал примеры доброго отношения — к бедным, детям, животным. А его энергичная супруга Анастасия Петровна объединяла дам в разного рода общественных начинаниях, справедливо полагаясь на кошельки их мужей — крупных чиновников и предпринимателей. Она и сама была попечительницей женской гимназии, вела Дамское отделение губернского попечительства о тюрьмах, создала и возглавила Иркутский дамский комитет Красного Креста. Её роль и значение в Иркутске были таковы, что даже отъезд и приезд отмечались в разделе официальной хроники. «И вот теперь Моллериусы возвращаются, и это — знак надежды!» — заключил Мыльников. Кстати припомнив, что и доктор Фрайфельд, уехавший из Иркутска «по причине неспокойного времени», продолжает исправно писать и всё спрашивает, не наезжают ли врачи из России, не открывают ли новые кабинеты, и кто принимает нынче вместо него? А Иван Александрович, с тайным ликованием и чуть-чуть преувеличивая, сообщает: конкуренция-де обострилась настолько, что и зубные врачи подрабатывают удалением волос с помощью электричества. В начале 1906 года самым большим спросом в Иркутске пользовались венерологи, что было естественно для города, почти два года остававшегося прифронтовым. Обыватели теперь страшно боялись «заразы», и в каждом доме непременно стоял флакон «Лизоформа». И у Мыльниковых тоже мыли руки с этим «лучшим обеззараживающим, без неприятного запаха и почти что не ядовитым», прощая аптекарям их навязчивую рекламу. Из всех очередей оставалась только к ветеринарному флигелю на Почтамтской: при огромном количестве венерологов в городе был сейчас лишь один ветврач скорой помощи. И все думали с опаской, что же будет, когда он отправится в отпуск или, например, заболеет. А ещё в ожидании приёма сетовали, каким скудным выдался первый послевоенный год: на железной дороге несколько служб ещё не получили январское жалование, а Переселенческий комитет распустили и вовсе не рассчитав никого из служащих. Но, в общем, жизнь всё равно понемногу налаживалась, и антрепренёр Кравченко замахнулся уже на оперную антрепризу; а предприниматель Коршунов заявил, что превратит Интендантский сад в Зимний сад — и в самые холода открыл здесь неплохой ресторан, выписал Дамский духовой оркестр под управлением госпожи Травиной. «Всеобщая библиотека» в каждом выпуске предлагала что-то вчера ещё запрещённое: «Историю революционного движения в России», «Материалы для истории гонения студентов при Александре II», «Материалы с портретами деятелей». Портреты вообще были слабостью издателей «Всеобщей библиотеки»: их предлагалось так много, что и Иван Александрович однажды полюбопытствовал. Но разочаровался, увидев Бакунина, бывшего в своё время в Иркутске и запомнившегося неопрятностью и громким голосом. Ещё на одном портрете, предлагавшемся Мыльникову, был бородатый господин с высокомерным выражением на лице. А внизу была надпись: «Карл Маркс». — Так вот кто нам разъяснил о прибавочной стоимости, — усмехнулся Иван Александрович, ещё раз всмотрелся в капризного бородача и уж более не интересовался «Портретами деятелей». Но общая неустойчивость жизни заставляла большинство обывателей искать, на кого опереться. Страховые компании развернулись как никогда, и если прежде они кружили главным образом над недвижимостью, то теперь неуверенные клиенты страховали и пенсии, и приданое, и саму жизнь. Случалось, заключив договор, они тотчас и умирали — как бы не от болезней, а от растерянности перед изменяющейся реальностью. Самые практичные понимали, что к ней нужно приспосабливаться, используя в собственных интересах и новые формы отношений, и новый язык. Иркутские мясоторговцы провели нечто вроде митинга, протестуя против «монополии» городской думы, сбившей цены на мясо с 25 копеек за фунт до привычных 12 копеек. А артист Мартынов искусно подвёл под недавние забастовки свой иск к господину Кравченко: — Жестокий антрепренёр не уплатил мне 200 рублей месячного жалования, вследствие чего я не смог выехать из Иркутска и стал жертвой забастовщиков, разгромивших мою квартиру на сумму в 800 рублей. Требую полного возмещения всех убытков! — продекламировал он в суде своим прекрасно поставленным голосом, выгодно расставляя акценты и используя весь багаж интонаций. Выяснилось, однако, что за артистом числился долг Театральному обществу, и Кравченко, как поручитель, погасил его, вычтя 103 рубля из жалования артиста. Остающиеся 97 рублей, на которые можно было уехать далеко от Иркутска, истец получить отказался исключительно «из чувства протеста». — Видно, это теперь — очень модное чувство, — усмехался Иван Александрович за обедом у сына, Александра Ивановича. — А я, судя по всему, безобразно консервативен, если из всех нынешних веяний поддерживаю разве что проект железных дорог внутри Иркутской губерний. Недавно в библиотеке Общественного собрания выступал инженер Тульчинский и очень толково представлял идею соединения местных угольных и лесоперерабатывающих предприятий с местными же хлебными волостями. Новые рельсовые пути не дадут товарам залёживаться и подтолкнут оборот капитала! — Мысль хорошая, безусловно; в особенности мне нравится, что Тульчинский своим проектом сделал ставку на местных концессионеров. В иную, более спокойную пору дело и запустилось бы годика через два, но теперь слишком уж неспокойно вокруг для таких продолжительных и серьёзных проектов. Сейчас время коротких, стремительных операций, и вот как раз об этом-то и хотел я поговорить. В сегодняшнем номере «Губернских ведомостей» генерал-лейтенант Сухотин предлагает мясо на выгоднейших условиях. И тут прорисовывается скорый и очень симпатичный доход, особенно при продажах в Нижнеудинске, Тулуне и Зиме — мясо там уже несколько месяцев в дефиците. Иван Александрович рассмеялся и заметил шутливо: — А не возникнет ли тут та самая прибавочная стоимость, о которой сообщает нам Карл Маркс? Вдоволь насмеявшись, Иван Александрович вернулся в свой магазин на Большой, и у входа стал невольным свидетелем спора между двумя гимназистами. Растратив все аргументы, один из них воскликнул: «Эврика! Даже если Карл Маркс заблуждается, это — частный случай, вовсе не исключающий его прогрессивности: Маркс ведь не виноват, что его не сослали в Иркутск и он так и не узнал, что всё лучшее здесь появилось из прибавочной стоимости»! Перепутье На извозчичьей бирже, уже садясь в экипаж, Александр Иванович Виноградов обратил внимание на погрузку журналов: за большими пачками с надорванными углами мелькнуло оживлённо-сосредоточенное лицо, показавшееся знакомым. Александр Иванович напряг память и вспомнил одну из последних поездок в Москву, знакомство с немолодым, но чрезвычайно энергичным человеком — содержателем железнодорожных «книжных шкафов» Ефимовым. На сей раз Николай Евгеньевич подвизался продать большую партию юмористических журналов — с этой целью и отправился на восток. В Иркутске у него сначала всё складывалось хорошо: поезд прибыл утром, извозчик попался покладистый и лишнего не запросил, а приказчик книжного магазина Посохина отпер дверь за полчаса до открытия. Но стоило лишь показать ему один из журналов, как от любезности и следа не осталось: — Революционной литературы не держим! Потоптавшись минут пятнадцать на улице, расспросив прохожих, Николай Евгеньевич отправился по адресам книжных лавок и скоро уже раскладывал свой товар. Но к четырём часам пополудни продан был лишь один экземпляр, и Ефимов сдался: «Отправляюсь дальше, в Верхнеудинск!» — Сдавайте книги в багаж и приезжайте ко мне, потолкуем! — пригласил Александр Иванович, и Николай Евгеньевич обещал, но отчего-то так и не появился. Лишь два дня спустя из сводки происшествий Виноградов узнал, что на вокзале был обыск, и все «юмористические журналы» конфисковали. Самого Николая Евгеньевича, к счастью, отпустили, и он уехал ближайшим же поездом на Москву. «А ведь никакого злого умысла у жандармов, возможно, и не было, — подумал редактор, — а был только страх перед шквалом нахлынувшей «политической литературы». Не зря ведь один из ротмистров сетовал недавно: «Попробуй-ка с первого взгляда разберись, где тут юмор, а где — крамола!» В последние полгода хорошо знакомые печатные издания стали вдруг исчезать, а вместо них начали появляться совершенно иные по духу и настроению. На 1906 год объявили подписку «Рабочий юморист», «Овод», «Рабочий зубоскал», «Вестник народного дома», «Голос окраины», «Молодая Сибирь». За всеми ними, конечно же, стояли определённые группировки, хоть формально владельцами могли значиться совершенно аполитичные лица, к примеру, супруга какого-нибудь заштатного секретаря. Так же, для прикрытия подбирались и невинные в политическом смысле названия, но при первом же взгляде на них становилось ясно, какой ветер дует в паруса. Власти скоро закрывали такую газету, но вместо неё немедленно являлась другая, разрешение на которую было взято заранее, так сказать, про запас. К примеру, у владельца «Восточного обозрения» Попова «лежали на полке» четыре издания, которые и спускались с неё по мере надобности. По той же схеме вставали из пепла и верхнеудинские газеты, закрытые властью «за вредное для общественного спокойствия направление». С вымыванием традиционной печати и газетная этика перестала быть постоянной величиной. Прежде, когда редакции располагались при квартирах издателей, когда на «авторских диванах» обсуждали события, делились планами, чувство неловкости за проступок было очень естественно. Теперь же, когда жизнь газеты, журнала измерялась месяцами, многие положили за правило вообще не стыдиться, и даже на баррикады не стеснялись звать именем Христа. Газета как дело жизни, каким, была «Сибирь» для Михаила Васильевича Загоскина или «Восточное обозрение» для Ивана Ивановича Попова, ушла вместе с девятнадцатым веком. Даже и уютное слово «редакция» вытеснилось «конторой», что так же не было удивительно, ведь газеты стремительно превращались в фабрики, производящие информационный товар. В конце января 1906 года Александра Ивановича Виноградова избрали кандидатом в члены иркутской комиссии по выборам в Государственную Думу. Он и прежде с интересом следил за изгибами отечественной политики, а теперь, когда она становилась такою непредсказуемой, участие в ней стало уже совершенною необходимостью. «Чего стоил один «Проект нового управления Россией», рождённый в недрах Государственного Совета! — огорчённо повторял Александр Иванович. — Авторы ведь всерьёз предлагают передать всю административную власть выборным земским представителям. Мало того, они полагают необходимым упразднить все сословия, а вместо них ввести некие корпорации по профессиональному признаку. Прозвучит как абсурд, но корпорации докторов планируется передать все заботы об учреждении и обеспечении лечебниц и аптек (вероятно, в перерывах между операциями и приёмами больных). Так же и корпорацию педагогов хотят обязать открывать новые школы, не забывая и о старых. Даже суды мыслится перевести в корпоративное русло, а роль контролёра за корпорациями передать остальному, некорпоративному населению во главе с Государственным Контролёром, избираемым Государственной Думой». Кажется, ничего более невероятного Виноградов никогда не читал, и, конечно, он был уверен, что «сей труд» не дойдёт и до приёмной Витте. Но сам факт, что такие фантазии зародились и имели хождение в ближайших к Государственному Совету кругах, говорил о многом. И можно было не сомневаться: подобные прожекты будут возвращаться опять и опять, и возможно, в ещё более уродливых формах. В иркутской комиссии по выборам в Государственную Думу собрались господа разных жизненных и политических устремлений, но достаточно взвешенные и, кажется, не сторонники бесплодных дискуссий. К тому же все сошлись в оценке выборного законодательства как половинчатого и противоречивого. Иркутский городской голова настойчиво предлагал горожанам «отнестись с особым вниманием к выборам в Государственную Думу, первую в России». И обращался он как бы ко всем, но законодателем вовсе не предполагалось общего участия. Как и в выборах городского самоуправления, право голоса даровалось, главным образом, налогоплательщикам. Сохранялся и возрастной ценз, не допускавший участия в выборах до достижения 25 лет. И избирательные права женщин оставались, по-прежнему, ущемлёнными: даже крупная собственница и владелица нескольких предприятий не допускалась к баллотировочным ящикам. Ей только лишь разрешалось передавать свой голос супругу или сыновьям. Механизм же для выборов предлагался такой: от каждого округа должны были выдвигаться по 80 выборщиков, которым и выпадала честь избрать члена Государственной Думы. Желающих удостоиться такой чести было достаточно, но им требовалась поддержка обывателей, а они оставались пассивными, устав от пережитой войны и никак не кончавшейся революции, от постоянного страха за близких и постоянного же роста цен. Даже общие бани, не отличавшиеся удобствами, за короткий срок вздорожали от 7 до 12 копеек. Занятым мелочными заботами о выживании трудно было задумываться о государственном обустройстве. К концу января 1906 года город только-только начинал приходить в себя. Мелкие чиновники радовались открытию абонементов «Первой сибирской кухни общедоступных обедов госпожи Белозёровой». Верно, дошло бы и до разъяснительных лекций о предстоящих выборах, но с переводом Сибири на военное положение и лучших юристов повысылали из Иркутска. Наблюдая за происходящим, Виноградов приходил к безотрадному выводу, что власть мечется и, одной рукой подавляя бунт, другой всё-таки проводит обещанные в минуту слабости демократические реформы. Александр Иванович и сам за них ратовал осенью 1905 года. Но теперь-то он видел, что тогда все взяли больше, чем могли унести. Долгое возвращение Часть телеграмм опять отправили почтой — «в виду того, что не все ещё забастовщики приступили к работе». Кандидатов на вакантные места с утра усаживали за длинный стол, где каждый и писал под диктовку: «В забастовке я не участвовал и в политических кружках не состою». — Имейте в виду, господа, что подобные сведения должна будет удостоверить полиция, — замечал немолодой канцелярский служащий — и часть претендентов, подумав, складывала листки и шла к выходу. Остальных направляли на собеседование к Варваре Григорьевне Сементовской, и обычно она с двух-трёх вопросов определяла их профпригодность (а чаще профнепригодность). Увы, очень много молодых, способных и энергичных людей ушло в революцию. Варвара Григорьевна вглядывалась в теперешних экзальтированных, нервных юношей — и понимала, что их сегодняшнее опьянение очень скоро обернётся тяжёлым похмельем. Ведь всё теперь происходит так быстро, жизнь больше не течёт, и события не разворачиваются, а мелькают, не успевая хорошо отпечататься в памяти. Пять месяцев назад обыватели радовались концу войны, в октябре поздравляли друг друга с Конституцией, встречали освобождённых «политических» — а недавно тюрьмы пополнились новыми политзаключёнными. Не очень успешные служащие открыли, что желанного повышения можно добиться заурядным доносом на быстро продвигавшегося коллегу. Слухи о том, что в городе освобождается много хороших должностей, быстро распространились, и в очередь встали даже и те, кто недавно не решился бы ни на что подобное претендовать. Вчера на собеседовании у Сементовской были две сестры с Соловьёвской улицы, двадцати и двадцати двух лет. В предложении «В забастовке не участвовала и в политических кружках не состою» обе сделали по пять ошибок, и Варвара Григорьевна спросила: — А часто ли вы держите в руках книжки, милые барышни? — Смотрим каждый день! Нам родители выписали из Варшавы полированный шкафчик. Из ореха. — А в нём 23 книжки. И за всё про всё, вместе с пересылкой — только 5 рублей 85 копеек! — выпалила старшая. — При задатке всего в два рубля. Соседка пожалела задаток, так ей не прислали ни книжек, ни шкафчика! А он ведь в точности такой, как в газете нарисовано! Мы его на окошко поставили, и теперь все смотрят нашу библиотеку. «Сонник» так зачитали уже, и «Искусство нравиться мужчинам» часто спрашивают. — А в вашей семье какие книги — любимые? — Мама всё перечитывает «Застольные речи к свадьбам и вечерам», — вставила Соловьёва-младшая, ну а папа забрал себе «Сборник острот», «Магический кабинет» и «Тайны гарема», — она хихикнула, но тут же и спохватилась. — Нам-то с сестрой больше нравится «Язык цветов», «Сборник стихов для альбома» и «Хороший тон». А старший брат смотрит «Советы ветеринара» и «Самоучитель бухгалтерии и счетоводства». — Он у нас и в городскую библиотеку записан, только после работы не успевает. Да, теперь и Варвара Григорьевна часто оказывалась у закрытых дверей: читальня, прежде работавшая до 8 часов вечера, теперь и до первых сумерек не дотягивала — «по причине тревожного времени». Несмотря на военное положение, число преступлений не только не уменьшалось, но они становились всё более дерзкими. Особенно выделялась шайка несовершеннолетних с главарём Седых. Варвара Григорьевна и по утрам, отправляясь на службу, искала попутчиков. И выходы в театр, до прошлого года частые, теперь превращались в событие; из большого репертуара одной симпатичной труппы, представлявшей оперу-буфф, удалось посмотреть только два спектакля. А из вечеров камерной музыки в музее Географического общества выбрать лишь один, когда исполнялся струнный квартет Бетховена. Даже именины Варвары Григорьевны, всегда затягивавшиеся до утра, в этот раз совершенно не удались: с половины восьмого гости стали поглядывать на часы, а к половине девятого все разъехались, не дождавшись даже коронного пирога в пламени. Оставшись одна, Варвара Григорьевна так и простояла полночи у окна, глядя на хорошо знакомый, но всё-таки очень изменившийся город. Погода стояла на редкость чудная, днём на солнце доходило до + 5, и теперь ещё с крыши капало. Ложась, она хотела оставить форточку открытой, но передумала — «по причине тревожного времени». 13 февраля полиции с помощью военных удалось захватить нескольких главарей шаек, а вслед за ними собрать в тюремный замок и многочисленных статистов. Всего за решётку попали 133 преступника, и комендант Иркутска подполковник Вербицкий, возглавлявший всю операцию и разработавший её план, вполне мог быть доволен. Вообще, назначение подполковника 5 Сибирского иркутского полка комендантом, по мнению многих, было не только логичным, но и лучшим решением. Хотя сам Вербицкий испытывал сложное чувство: Иркутск был совсем уже не тот город — полный трогательной надежды и на редкость единый, который провожал их два года назад. Теперь он разделился на сыщиков и разбойников, и от Вербицкого ждали планов поимки одних другими — совершенно по фронтовым схемам, строящимся на ненависти к врагу. Было что-то изначально порочное в этой схеме, ведь преследование уголовников плавно перетекало в преследование «политических». А для Вербицкого те и другие были иркутянами, которых защищал он в войне с Японией. В остром внутреннем противостоянии город, в сущности, и не заметил возвращенья своих полков, от которых после каждого боя получал телеграммы-отчёты. О том, как полковник Александр Шереметев со своими бойцами прикрывал отступавших, двое суток отбрасывая врага штыками. И о том, как подполковник Гавриил Лихачёв, тяжело раненный, оставался в строю, ободряя солдат. В Иркутске с гордостью передавали об этом друг другу, служили молебны, но к августу 1905-го, когда был напечатан указ о высочайшем награждении Шереметева и Лихачёва, на него и внимания не обратили — к той поре уже многие горожане зачитывались прокламациями и считали, что чем хуже на войне — тем лучше для революции. Выживших героев, в сущности, и не встретили по-человечески. Один совестливый господин написал городскому голове: «Иркутский и Енисейский полки скоро уйдут из города на постоянное место жительства. И если уж их не встретили в своё время, как следовало, то хотя бы проводим с должными почестями! Помнится, заказывали для встречи специальное блюдо под хлеб-соль, и, наверно, оно пылится ещё меж бумаг в городской управе... А ведь иркутский полк, образовавшийся из Иркутского батальона, есть наш, коренной». Пока управские искали пропавшее блюдо, подполковник Вербицкий обезвреживал шайки преступников. Обязанности коменданта побуждали его вникать и в устройство городского хозяйства — и здесь тоже многое изумляло его. В Кузнецовской больнице обнаружился страшный перерасход, но когда провели ревизию, оказалось, что бюджет рухнул из-за «сверхкомплектных железнодорожников». Министерство путей сообщения из года в год принимало обязательство выстроить собственную больницу — и не исполняло его. В иные месяцы докторам приходилось из собственного жалования оплачивать хлеб для больных. В конце концов, и жалование перестали платить — потому что «лопнула смета». Чем более погружался Вербицкий в запутанную гражданскую жизнь, тем более приходил к убеждению, что без перевода на военное положение Иркутску и совсем уж пришлось бы худо. Это практическое соображение постепенно смирило его со своей новой миссией — и на лице города проступило, наконец, то симпатичное выражение, по которому он скучал на Дальнем Востоке. Субботним февральским утром, объезжая, как обычно, Иркутск, подполковник неожиданно завернул в рисовальный класс, только что открытый местным художником Лытневым. Вопреки представлению, что творцы встают поздно, за мольбертами трудилось уже около двух десятков любителей живописи. Никто из них и не обратил никакого внимания на Вербицкого, и тот с удовольствием вслушался в разговоры о будущей всесибирской выставке. Никаких официальных известий о ней не было да и быть не могло до снятия военного положения, но люди у мольбертов нисколько не сомневались, что выставке быть! Вербицкий тихо вышел из студии и без слов дал команду ехать дальше. На Ангаре, напротив курбатовских бань, остановился и долго разговаривал с инженером Крыловым, проводившим изыскания для строительства постоянного моста через Ангару. День коменданта положительно складывался, как, наверное, постепенно складывалась и вся жизнь. На камерном вечере в музее, устроенном местными музыкантами Синициным и Городецкой, выходившие из инструментов звуки тут же и пропадали: зал оказался совсем непригодным по акустике. Но все стулья, даже и приставные, были заняты, и самые взыскательные знатоки не ворчали. Иркутск, уставший от потрясений, тянулся к привычной, размеренной и приятной жизни. А заседание городской думы 16 февраля, на котором рассматривалось обращение совета старшин Общественного собрания, и вообще приняло подзабытый водевильный характер: — Не будучи коммерческим предприятием, — обратился к думе один из старшин, — мы лишены возможности участвовать в торгах на аренду Синельниковского (Интендантского) сада. А 337 интеллигентных членов не могут удовлетворить те развлечения, кои предлагает арендатор сада. Поэтому просим сдать нам в аренду на 11 лет по цене 1000 рублей за сезон 238 квадратных саженей, с павильоном — дабы изолировать интеллигентных членов собрания от сада. «Такое обращение предполагает у господ гласных изрядное чувство юмора; а коли так, значит, дело определённо на поправку пошло», — заключил подполковник. Миллионное дело по иску города Красноярска к Сибирской железной дороге было назначено к слушанию на 16 февраля 1906 года. Любопытствующая публика заранее абонировала лучшие места, предвидя захватывающее состязание адвокатов Орнштейна и Фатеева. Судья предусмотрительно заказал второй завтрак, а перед самым выходом выпил чашечку очень крепкого кофе. Быстрым взглядом окинув собравшихся, он с удивлением обнаружил, что в зале нет ни одного из присяжных поверенных. Кажется, это был первый случай в его практике, и судья, смешавшись, взял паузу. К счастью, она не затянулась: дверь приоткрылась, и показался огромный коричневый портфель, а вслед за ним и хозяин — присяжный поверенный Косенко. Частный поверенный гарантирует — Я только-только получил документы из Красноярска и поэтому прошу перенести рассмотрение дела — недели на три, не меньше. — А при чём же тут Вы, если интересы города Красноярска представляет господин Фатеев? — Помилуйте! Он для этого не имеет решительно никакой возможности — разве Вам неизвестно, что Иван Сергеевич арестован? Вслед за этим поднялся представитель ответчика и объявил, что по той же причине отсутствует и нанятый ими присяжный поверенный Орнштейн. Рассмотрение отложили на две недели, однако не было уже ни малейшей уверенности, что и Косенко к тому времени не окажется в тюремном замке, вместе с 700 другими юристами, педагогами, докторами и священниками, признанными опасными для режима. Последующие события лишь укрепили опасения: Илья Михайлович Камов, преподаватель промышленного училища, в одночасье оказался отстранённым от должности и высланным за пределы губернии на всё время действия военного положения. Жену известного всем чиновника арестовали по анонимному доносу и прямо с семейного торжества поместили в общую камеру с двумя десятками уголовниц. Родные принялись хлопотать, добиваясь замены тюремного заключения штрафом, но их прошение было решительно отклонено; мало того, немолодой и болезненной женщине предстоял теперь перевод в Александровскую тюрьму. В несколько лучшем положении оказались арестованные железнодорожники: начальник Забайкальской дороги распорядился переправлять их зарплату непосредственно в тюрьмы. Правда, частный поверенный Николай Никитич Вершинин и на этот счёт был настроен скептически: «Кто и где в «отсидке» — Бог весть, тут никакие кассиры искать не возьмутся». Однако ж и он умилился, узнав, что местное педагогическое общество навело справки обо всех своих арестованных и теперь собирает продовольственные посылки. Слывя человеком уравновешенным, Вершинин страшно раздражался, сталкиваясь с самонадеянными клиентами, способными провалить и заведомо выигрышные дела: — Представьте, господа: некто Степан Акимов получает увечье на заготовках леса для железной дороги. Чтобы из бежать инвалидности, ему требуется срочная операция, но уездный доктор не хочет брать ответственность, а в Иркутске травму находят слишком простой для высоких профессионалов — и Акимов так и не получает помощи. Начальство переводит его в сторожа, а вскоре и вовсе увольняет. То есть, ситуация ясная, дело — беспроигрышное, если взяться с умом. Я так и сказал, когда Акимов обратился за консультацией. «А коль дело-то верное, то пошто мне платить-то тебе, аблокату — небось, и так разберутся!» — заявил он. И ушёл «хлопотать». Эксперты от железной дороги, понятное дело, обрадовались и в один голос начали уверять, что по прошествии времени трудно определить, что же именно стало причиной увечья. Что травма, если хорошенько задуматься, могла быть и вовсе не производственной, а исключительно бытовой. Судья стал расспрашивать самого Акимова, но он только запутал всех своими бестолковыми «пояснениями» и бесконечными просьбами «не оставить без последствий». — Неужто отказали в иске? — Отказали бесповоротно и, повторюсь, исключительно из-за глупой самонадеянности истца, — не без торжественности заключал Вершинин. Однако наедине с собой Николай Никитич думал и о том, что клиенты брыкаются ещё оттого, что он — не присяжный, а только частный поверенный. Российская адвокатура той поры включала в себя три категории юристов: присяжные поверенные, частные поверенные и помощники присяжных поверенных. Чтобы стать присяжным, нужно было, во-первых, окончить курс юридических наук, а, во-вторых, проработать пять лет помощником присяжного поверенного или же по судебному ведомству. За эти годы лицо будущего присяжного обретало выражение должной значительности, и теория права вполне укладывалась в голове, местами достаточно плотно. Но мостки к самостоятельной практике прокладывались с трудом и долгое время ещё оставались шаткими. Случалось, начинающие присяжные проигрывали давно практикующим частным поверенным. В таких случаях побеждённые говорили обыкновенно, что адвокат вовсе не обязан выигрывать, его обязанность — вести дело, не более. В кругу присяжных бытовало мнение, что стать частным поверенным не составляет никакого труда, ведь для этого даже и экзамен сдавать не нужно, достаточно лишь приглянуться судейским. Но Вершинин-то знал, каково оно, это судебное усмотрение: бывало, опытнейших юристов, с именем и капиталом, забраковывали, а какой-нибудь одиозной фигуре, не выигравшей ни одного процесса, обеспечивали продвижение. Присяжные этого не только не спускали, но и поднимали на щит, требуя и вовсе упразднить институт частных поверенных. Но в подобном требовании частные поверенные усматривали «стремление белой кости адвокатуры повысить стоимость собственных услуг». Впрочем, она и без того была высока: в небольших городах адвокатов не хватало, а в глухих местах их не было вовсе. Зато процветала подпольная «адвокатура», от которой был один только вред. Николай Никитич Вершинин, несколько лет боровшийся с комплексом «ничтожности собственного образования», к 1904 году созрел до того, чтобы стать студентом. Но война и революция закрыли двери лучших вузов — и Вершинин решил продолжить самообразование. В сущности, он давно уже располагал всевозможными курсами лекций, но просто следовать им, продвигаясь от простого к сложному, было скучновато, поэтому обучение шло без всякой системы, но весьма интенсивно. Обычно новый предмет, тема или же новый поворот старой темы просто «падали на голову». Так Вершинин выражался с тех пор, как в публичной библиотеке на него свалился весьма увесистый том. Потерев ушибленное место, Николай Никитич взглянул на название и невольно усмехнулся — ударило-то его «Адвокатурой Соединённых Штатов Америки». С той поры он не только прочёл всё, что мог раздобыть по американскому праву, но сделался настоящим его поклонником и даже пропагандистом. В среде иркутских поверенных за Вершининым даже закрепилось прозвище «господин Там». А на его именинах один артистичный коллега представил шутливую пародию: — Там ни для кого не делается исключения, и Там никому не отдаётся предпочтения. Там каждый подданный, не стоявший под судом и выдержавший экзамен, может войти в адвокатское сообщество. Там знают, что каждый человек может изучить юридические науки и путём самообразования, ибо Там придерживаются мудрого правила, что диплом университета ещё не прибавляет человеку честности и ума. Наконец, Там ни суд, ни министр юстиции не могут произвольно допустить или запретить адвокатскую практику! В общем, Там всё прекрасно, но вот беда: господин Вершинин Там никогда не бывал... — Зато я знаю, как должно поступать войсковому атаману Андрееву! — парировал Николай Никитич со смехом. Впрочем, говорил он вполне серьёзно: в Забайкалье казачество поднималось на голодные бунты, в то время как купленный хлеб гнил в тупиках под Томском. Войсковой атаман Андреев писал ходатайство за ходатайством, отбивал телеграммы, прося всех начальников «не оставить ответом», хотя нужно-то было совсем другое — выставить иск железной дороге сразу после перевода её на гражданское положение. Но, как часто повторял сам Вершинин, «чтобы воспользоваться юридическими услугами, нужно, как минимум, понимать их значение. У нас же не только казаки, но и издатели-редакторы полагаются на авось». Кажется, Вершинин имел в виду Манна, владельца «Сибирского обозрения». Поверенный заходил к нему сразу после опубликования проекта поправок к «Временным правилам о печати». И серьёзно предупреждал, что ответственность за направление газет перекладывается теперь на владельцев типографий. То есть, в условиях, когда цензура официально отменена, предпринимателей обяжут стать цензорами. И отказаться им будет нельзя, разве только с риском лишиться права содержать типографии. — Что же собственно до редакторов, то им новой поправкой гарантирован не только крупный штраф, но и тюремное заключение, — уточнил Вершинин. — Впрочем, всё не так страшно, если учесть, что поправка предполагает непременное судебное разбирательство. Значит, издателям и типографам нужно объединиться и нанять хорошего адвоката. А лучше и двух. Прибросив расходы, Манн пустился в длинные рассуждения о том, что изменения «Временных правил» пока только в проекте («А ну как не будут приняты?»). Разумеется, газета напишет о гнусном намерении властей, и читатель оценит такую публикацию по достоинству, но хлопотать прежде времени о туманной судебной перспективе, право же, даже как-то и несолидно... Вершинин поклонился и вышел. На квартире его ждал посетитель — ещё недавно агент Забайкальской железной дороги. У него в Култуке была неплохая квартирка, лучше той, что досталась ревизору К. — и в январе, с началом массовых арестов, К. донёс «куда следует» о «политической неблагонадёжности» конкурента. — И представьте: меня не только уволили «с очищением казённой квартиры в 24 часа», но и поместили в тюрьму. Когда же началось настоящее разбирательство, то послали запрос в Жандармское управление — и естественно, получили свидетельство о полной политической благонадежности. Меня тотчас выпустили на свободу и даже предложили помощь в трудоустройстве. Только я решил, что следует наказать доносчика. Какие у этого дела могут быть перспективы? — Пока что туманные, — отвечал наученный горьким опытом Вершинин, — но при определённых усилиях могут прорисоваться. «Одно плохо, — подумал он, — пока мы строчим доносы друг на друга, японцы укрепляются в нашем тылу. — Он имел в виду свежий номер «Сибирского обозрения» с объявлением на ломаном русском: «Довожу до сведений господ заказчиков, что в прачечной «Ялта» приехал японский мастер. Прошу публику обратить внимание и не оставить своим посещением. Ул. Графа Кутайсова, 10» Рецепт от Гондатти В последнюю неделю февраля у известных в Иркутске пойнтеров Рапида и Фальки появился новый помёт. Правитель канцелярии военного генерал-губернатора Н.Л.Гондатти узнал об этом одним из первых и задолго до того, как правление Общества охотников пригласило господ членов на жеребьёвку. Коротко говоря, ему предложили право первого выбора — в нарушение сразу двух параграфов Устава. Но при этом и члены Правления, и тем более сам Николай Львович хорошо понимали, что далее смотрин не пойдёт, ибо и само предложение — только проявление пиетета перед персоной, столь неожиданно и столь достойно проявившей себя в последние месяцы. Гондатти, волею обстоятельств вознесённый на пост иркутского губернатора в самый канун отправки сюда карательной экспедиции Ренненкампфа, сумел избежать всякого кровопролития. Аресты, высылки, разумеется, были, (в том числе и случайные, и нелепые, и вообще ничем не оправданные), но при этом никто не был казнён, как, к примеру, в Чите и Красноярске. Более того, многим иркутским деятелям (в том числе из Общества охотников) удалось беспрепятственно скрыться — Николай Львович вовремя посоветовал им развеяться где-нибудь в Европе, да не очень торопиться обратно. Сам действительный статский советник Гондатти ждал уже нового назначения (губернатором в Тобольск), и по мере того как слухи об этом распространялись по городу, набирала силу и волна сожаления, смешанного с благодарностью. Сердечность, с которой прощались с ним иркутяне, невольно напомнила Николаю Львовичу расставание с эскимосами, средь которых он прожил два года. Вещи «от Гондатти», как и всё теперь, расходились за треть цены. Никуда не уезжающие обыватели в два последних года чуть не даром получали где-нибудь на Граматинской отличные сани петербургской работы, да ещё и с медвежьим одеялом в придачу. Тут же предлагался и рысак с аттестатом Подаруевского завода, а на Луговой сидящие на чемоданах супруги спускали за бесценок хороший дубовый буфет, да ещё и «с цветами большого роста». На Ланинской же на невиданных прежде условиях отдавалось винно-бакалейное дело на полном ходу. Уже подбивая дела, Николай Львович получил на утверждение два Устава — местного отделения Союза лавочников и отделения Торгово-промышленного союза. Оба документа были хорошо знакомы Гондатти, и за месяц, отпущенный на переработку, они, в сущности, и не изменились. Чья-то опытная рука только чуть-чуть подправила их, с явным расчётом на его снисходительность. А зря: работа в должности правителя канцелярии при генерал-губернаторе Кутайсове научила Гондатти читать между строк и быть жёстким при внешней мягкости. А выказывая всю жёсткость, никогда не доводить её до абсурда. Он и к генералу-карателю Ренненкампфу отыскал подход именно с этой стороны — убедил, что дежурные, показательные, случайные казни бессмысленны, а стало быть, и никогда не будут оправданны перед Богом. Несомненно, в Иркутске были те, кто и казни заслуживает, но страх перед наказанием заставил их скрыться за пределы не только России, но и Европы. Где-то в Америке прячутся и в Японии. Об этом Гондатти сообщил со столь загадочной убеждённостью, словно бы располагал определёнными агентурными данными. Он блефовал, набравшись вдохновения из крошечной заметки в «Сибирском обозрении»: «По сообщению из Токио, русские революционеры ходатайствуют об издании в Нагасаках ежедневной газеты». Временные неприятности Из всех приёмов военной тактики генерал-лейтенант К.М.Алексеев всего более тяготел к эффекту внезапности. И в должности генерал-губернатора не отказался от привычки идти туда, где не ждут: то в шесть утра появлялся в коридорах городской, Кузнецовской больницы, то, будто из-под порога, вырастал в приёмной детского приюта. Докторов Алексеев, и правда, опередил, а вот попечительницу приюта Звонникову нашёл уже в столовой — проверяющей закладку продуктов для завтрака. Константин Михайлович имел с собой 250 «представительских» рублей, но отдать их решил не раньше, чем убедится в толковом ведении дел. Госпожа Звонникова приняла эти деньги с естественной простотой («Как у супруга на хозяйство», мелькнуло у генерала), заметив только, что теперь ей удастся устроить пасхальное угощение для детей. К своему удивлению, начальник края целый час проговорил с этой дамой, на редкость деловитой и рассудительной. Между прочим, она рассказала Константину Михайловичу, что ещё прошлой осенью освободился завещанный Благотворительному обществу капитал госпожи Портновой, помещённый в банк на 25 лет. И проценты с этого капитала могли бы стать приюту хорошим подспорьем. Алексеев оказался на удивление разговорчив в это утро, но всё же он не сказал Звонниковой главного — отчего он сегодня здесь. Накануне ему доставили на утверждение смертный приговор для трёх обвиняемых в грабежах и убийствах. Посмотрев внимательно материалы дела, он ясно увидел изворотливых хищников, никогда не чувствовавших родительского тепла и уже не способных ни к чему человеческому. Но среди ночи проснулся вдруг, что само по себе было странно: как настоящий военный, генерал мгновенно засыпал и мгновенно же просыпался — в нужный час. Сегодня же пришлось долго ходить, разгоняя странные мысли. А в начале седьмого он стоял уже у приюта. На генерал-губернаторство Алексеев, заведовавший санитарной частью Маньчжурской армии, был определён временно — исключительно на период военного положения. В Иркутск начальниками огромного края подбирались то граф, то барон; к этому привыкли уже, и на «маньчжурца» Алексеева тут же сделали карикатуру на январском маскараде в Общественном собрании. Чины из окружения бывшего генерал-губернатора графа Кутайсова язвительно передавали друг другу, что «К.М. развит плохо, и в одну сторону». Впрочем, знавшие его несколько дольше, признавали, что «ловок, очень ловок и на редкость умело применяет законы». Сам же Алексеев полагал своим отличительным качеством здравомыслие, позволявшее и абсурдный приказ исполнить так искусно, чтобы в нём прорезался смысл. А ещё его отличала способность чувствовать перемены до того, как они станут явными. И теперь, в разгар карательных экспедиций, у Алексеева появилось ощущение, что «вот-вот — и повернёт». Ещё с середины февраля, открывая газеты, он старался угадать скрытые пружины готовящихся перемен. Сначала они вплетались в затейливое кружево экономических новостей: «По телеграфному распоряжению министра путей сообщения восстановлены в прежних должностях инженеры Кенге, Питон и техник Сенкевич», — сообщило «Сибирское обозрение» 28 февраля. Потом пришла весть, что министр народного просвещения граф Толстой ходатайствовал о разрешении высланному из Томска директору технологического института Зубашёву приехать в Петербург, на съезд вузовских профессоров. Наконец, «Биржевые ведомости» поместили телеграмму из Верхнеудинска: «Совет местного педагогического общества умоляет правительство о смягчении наказаний, налагаемых генералом Ренненкампфом, который в первый же по прибытии день приговорил нескольких человек к смертной казни за одно лишь осуществление начал Манифеста 17 октября». Расстрел отменили, и хотя расправы не прекратились ещё, ясно было, что наверху начали понимать: искры протеста лучше гасить, нежели раздувать. Нужно было прожить в Иркутске всего несколько дней, чтобы стало очевидно: для большинства обывателей их размеренное существование куда значимей, чем дом на Большой или, скажем, доходное предприятие. И если кто-то привык из года в год получать к Рождеству «Памятную книжку Иркутской губернии» или, скажем, «Восточно-Сибирский календарь», то он и должен был их получить — просто для сохранения равновесия. Значит, он, Алексеев, должен озаботиться, чтоб и вагон с бумагой не застрял в тупике, и типограф Казанцев не попал бы в тюремный замок в неподходящее время. С другой стороны, и вдове убитого бунтовщиками помощника полицмейстера нужно будет «пробить» не просто хорошую, а очень хорошую пенсию — дабы показать, кто есть кто. Обыватель посудачит, конечно, но кончится тем, что и на квартальных начнут смотреть по-другому. На 6 марта Алексеев назначил смотр войск — продемонстрировать силу и в то же самое время умиротворить. Смотр и назван был необычно — «Большой военной прогулкой по городу». И пулемётную роту, и казачью сотню, и пехотные части, расквартированные в Иркутске, настроили как на пасхальное шествие. Накануне был зачитан высочайший приказ о наградах за отличия в войне против японцев. Командира Иркутского пехотного полка полковника Вставского пожаловали орденом Святой Анны 2 степени, с мечами; полковника Аксёнова и капитана Серебренникова — орденами Святого Станислава 2 степени, с мечами; подполковника Богословского — орденом Святой Анны 4 степени, с надписью «За храбрость». Пехотинцы ликовали; что же до юнкеров, то их естественную порывистость несколько смягчили утренней экскурсией в золотосплавочную лабораторию. Кое-какой запал всё-таки остался, но он весь был растрачен на стоящих вдоль тротуаров барышень. Те, впрочем, заглядывались на осанистых командиров, переговариваясь о том, что главное украшение для мужчины — это орден. Накануне в городе ждали наводнения, и сегодня утром ещё с тревогой передавали друг другу, что за Ершами Ангара совершенно уже очистилась ото льда, тогда как обыкновенно проходила лишь в конце марта. «Прорвёт, непременно прорвёт!» — тревожно передавали друг другу обыватели, но под впечатлением от «военной прогулки» они словно забыли об угрозе, и даже когда улицы опустели и смолкли последние трубы военных оркестров, в тёплом мартовском воздухе оставалось ещё что-то очень волнительное; и дочка мирового судьи второго участка попросила «покататься ещё» — и кучеру было велено сделать два круга. На самом же деле, вышло больше; к тому же барышня повстречала знакомых и довольно долго простояла у входа в кондитерскую Камова. Кучер Илья так проголодался, что, въехав во двор, сразу же припустил на кухню. Суп был остывший уже, но всё равно вкусный, и Илья с удовольствием потянулся, встав у окна. Тут-то и увидел он, как кто-то вихрем промчался на его Рыжке через незатворённые ворота. С этой минуты все надежды Ильи были только на полицию. Прежде он, бывало, посмеивался над знакомым городовым, у которого правый глаз был всегда прищурен, а левая бровь приподнята; но теперь маленький и забавный Семён Игнатьевич разом вырос в его глазах, и два раза в день Илья бегал к нему справляться о Рыжке. Очень уж не хотелось терять место и возвращаться в извозчики, чтобы опять трястись по ночам от страха, а днём опасаться задиристых конкурентов. С детства Илью прозвали «Смирным», и на службе у мирового судьи ему было покойно, а в последнее время, как подружился с кухаркой Варварой, ещё и весело. Если Рыжка найдётся, то хозяин, может, и пожалеет его, не прогонит. «Говорят, в Иркутске извозом кормятся восемь тысяч человек; да, видно, так оно и есть, потому что сам иркутский губернатор ещё в начале войны дал извозчикам разрешение провозить овёс по железной дороге вместе с военным грузом, — рассказывал он Варваре. — А вот господам судьям таковая льгота не положена, и при нонешних ценах овёс-то может даже и их подразорить. Однако же, и без коня ведь никак: в собственном-то экипаже куда как покойней ездить! А то вон мой дядька безлошадный, хошь он и служащий по статистике, а при нонешних страхах решился тайно револьвер завести. И ведь сгодился, окаянный: дядька поздно с работы шёл, а у самого дома на него и напали! Он сначала три раза в воздух стрелял, а после уж и в преступников. Не попал (он ведь и не целился), а всё-таки на четыре месяца осуждён. И с работы его уволили, не посмотрели ни на какие награды». ...Ранним мартовским утром из иркутского тюремного замка направилась в Александровскую тюрьму новая партия арестантов. Как-то даже не верилось, что среди этих одетых в казённые халаты и председатель иркутского Сиротского суда, и весь цвет местной адвокатуры, и примерный служащий отдела статистики управления Забайкальской железной дороги. Племянник последнего, заспанный и всклокоченный кучер Илья, беспомощно перебегал глазами от ряда к ряду, пока не догадался окликнуть: «Павлов из статистики где?» Сунув дядьке вкусно пахнущий свёрток от Варвары, он начал бестолково рассказывать, как наш Рыжка сам нашёлся и, натурально, от увольнения спас». Павлов слушал рассеянно, но под конец, когда из провожавших никого уже не осталось, всё-таки улыбнулся. Забайкальские родственники Павловых, узнав об аресте Александра Павловича, слали соболезнования; но тут же и добавляли, что у них «жизнь не лучше, цены на продукты стоят невозможные, и читинские предприниматели даже перекупают грузы, назначенные в Иркутск». Да, об этом писали и в иркутских газетах, но читателей больше взбудоражил один необычный мошенник, нанимавший персонал для корейской лесной компании. Оклады он обещал солидные, гарантировал и проездные, и подъёмные, в одной из типографий сделал заказ на расчетные книжки и даже купил партию ножей — якобы, для меток на деревьях. Так или иначе, а 60 иркутян бросили работу и собрались в отъезд, когда полиция объявила, что это — очередное мошенничество. Правда, необычное, потому что и корысти не было никакой — авантюрист действовал исключительно «из любви к искусству». Завтрак снова остался нетронутым, что вернее верного говорило: Михаил Ильич нервничал. По многолетней привычке все служебное он оставлял за порогом своей уютной квартиры, по домашнему телефону отвечал неизменно бодрым голосом, но при этом совершенно терял аппетит. Вот и сегодня он сделал три глотка кофе и тут же ретировался. Зинаида Григорьевна еле слышно вздохнула, но ничего не сказала — она поняла уже, что он будет отбивать новую телеграмму в Петербург, в Главный Штаб армии. Вот снимет с себя этот груз — и, дай Бог, отобедает. Телеграфировал генерал-майор Хлыновский всё об одном и том же, и постепенно текст настолько отшлифовался, что даже получил заголовок — «О ненормальном положении вещей». Утраты и обретения А что, собственно, происходило: за полгода после окончания войны так и не был расформирован ни один из санитарных поездов. Хоть все раненые давно уже перешли в разряд выздоравливающих и уезжали из госпиталей в пассажирских вагонах. Да и выздоравливающих к марту 1906 года оставалось не более двух тысяч. Между тем, в распоряжении одной только Иркутской эвакуационной комиссии находились двадцать санитарных поездов с полным штатом обслуживающего персонала. Их можно было видеть в тупиках станций Иннокентьевская, Половина, Зима, Тулун Тайшет. Слонявшиеся без дела доктора, сёстры милосердия, фельдшеры, санитары, натурально, не знали, куда себя деть, и взывали о помощи. Содержание каждого поезда обходилось казне в 250-300 рублей ежедневно, а в месяц в Иркутской губернии тратилось впустую 150-180 тысяч рублей. С учётом же остальных поездов, стоящих в Харбине, Самаре, Омске, Москве, доходило до миллиона выброшенных рублей ежемесячно! Впервые передав об этом по телеграфу, начальник эксплуатационно-санитарной части военного округа полагал, что меры взяты будут самые незамедлительные. А поняв, что заблуждается, подключил к телеграфной бомбардировке начальника иркутской эвакуационной комиссии, и теперь сообщения летели сразу за двумя подписями. Но Главный штаб молчал... Тогда Михаил Ильич решился на откровенный разговор с хроникёром «Сибирского обозрения». Странно было рассчитывать, что газетная публикация здесь, в Иркутске, повлияет на Петербург, но Хлыновский просто не мог сидеть сложа руки. И возможно, так совпало, но вслед за «Сибирским обозрением» о «санитарном покушении» на казну раструбили столичные корреспонденты — и Главный Штаб распорядился-таки о расформировании восьми санитарных поездов, стоявших в Иркутской губернии. В остальных двенадцати сократили по одному человеку — и только. А в Самаре, Омске, Москве и до этого не дошло — оттуда ведь не бомбили Главный Штаб телеграммами. Поразмыслив, Хлыновский решил, что, должно быть, у Петербурга есть какие-то «высшие соображения»; скорее всего, те самые, из которых и войска сейчас сосредоточены вдоль границы. Возможно, в этом есть и необходимость, но опять всё без расчёта, с бессмысленным опустошением казны! Наверху вынашивались новые агрессивные планы, а прифронтовая Сибирь ещё не опомнилась от японской войны. 3 марта через Иркутск прошёл эшелон с русскими военнопленными; в самом городе до сих пор под казармами начальные школы, и мука по фиксированной цене отпускается под «эскортом» конных казаков. А в свободной продаже и цены свободны беспредельно — Иркутск остаётся самым дорогим из сибирских городов западнее Байкала. Между тем, столичная «Торгово-промышленная газета» уверяет, что положение Сибири не может не внушать оптимизм — «потому что война преподала отличный урок, и влияние её будет благотворным, в особенности на промышленность. В Сибири прекрасно распространились земледельческие орудия, чрезвычайно востребован и высоко оплачивается женский труд». Хлыновский читал — и недоумевал, откуда эти «оптимисты» черпают свои «сведения». Очевидно ведь, что война показала страшную зависимость Восточной Сибири от промышленных центров, с которыми связывал только рельсовый путь. На последней Нижегородской ярмарке закупки были так незначительны, что пароходчики свернулись, и к открытию военных действий водный путь в Сибирь уже просто бездействовал. Торговцы, в большинстве своём мелкие, не сумели реанимировать и прежний, трактовый путь, поэтому малейший сбой на железной дороге, занятой военными грузами, порождал настоящие кризисы — керосиновый, сахарный, хлебный. Наконец, за время войны Иркутское генерал-губернаторство, и прежде небогатое на рабочую силу, лишилось массы рук. А тут ещё многочисленные увольнения забастовщиков! Начальник иркутского почтово-телеграфного округа рассказывал Хлыновскому, что страшно переутомлённые люди порой не могут сделать простейшей работы. В то же самое время Иркутский тюремный замок, Александровский централ, и Александровская пересыльная тюрьма переполнены «политическими», и пока священники, учителя, доктора доказывают, что «идеями не задавались и в забастовках не состояли», крестьяне под шумок покушаются на казённые боры, уклоняются от податей и натуральных повинностей. На почве столичного послевоенного оптимизма проклюнулся и проект всеобщего и обязательного начального образования. Министерство народного просвещения разработало его спешно и, что самое странное, без финансовой составляющей. Просто декларировало, что школ должно быть много, так много, что расстояние между ними не должно превышать 2-3 вёрсты. Минимальное жалование учителю назначалось в 30 рублей в месяц, и это было единственным, что министерство брало на себя. Доплату (совершенно необходимую), равно как и строительство, содержание школ, министерство «демократично» перекладывало на органы местного самоуправления. — Эта глупость стоит в общем ряду законодательных несуразностей последнего времени, — заключил генерал-майор, и супруга вполне с ним согласилась. Даже не юристам ведь было очевидно, что уже первая статья положения о Государственной Думе вступала в противоречие с Манифестом 17 октября. И вообще: в новом документе не нашли ни малейшего выражения принципы представительства. Положим, не все — сторонники этих принципов, но если уж власть даровала Манифест, ему должно и следовать! — Предлагаемое устройство Государственного Совета даже и у меня вызывает недоумение, — делилась с мужем Зинаида Григорьевна. — Как можно членам Государственного Совета давать право вообще не участвовать в заседаниях? Как можно их освобождались от каких-либо обязательств перед избирателями? Выясняется, что и члены Государственной Думы высочайшим указом ограждены от своих избирателей, и в присяге, которую принимали они, нет ни слова об избирателях, которые, собственно, и привели их к власти. Вот уж чего я не ожидала, Михаил Ильич! Я ведь и политики сторонилась всегда потому, что полагала её делом тонким, сложным и доступным исключительно мужскому уму. А теперь уж вижу, как всё до безобразия просто! — Матушка, что ж ты так встрепенулась-то? Так ведь и до удара недалеко, а это нам совсем ни к чему — у нас завтра гость намечается, и какой! Командир 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, руководивший эвакуацией пленных из Японии, перед отправкой в Петербург провёл у Хлыновских вечер. Галантный мужчина, он немало позабавил и удивил Зинаиду Григорьевну. Но в кабинете у Михаила Ильича был, напротив, задумчив и поведал хозяину, что везёт государыне Александре Фёдоровне весьма многозначительный подарок от японской императрицы — 15 ящиков искусственных рук и ног... С некоторых пор у супругов Хлыновских появилось ощущение зыбкости происходящего. Сначала они это скрывали друг от друга, но потом «рассекретились» — и неожиданно, по-другому, чем прежде, сблизились. Михаил Ильич больше не оставлял служебных неприятностей за порогом, а, напротив, говорил с женой как с мужчиной — и всё более удивлялся, как толково она всё раскладывает по полочкам. От такой сортировки неприятности теряли масштаб — открытие это так обрадовало Михаила Ильича, что прежний, забытый аппетит вернулся к нему. Клубная жизнь В начале седьмого Елена Васильевна отправилась в Ремесленный клуб, где сегодня собиралась комиссия по устройству народных чтений. По дороге её несколько раз обогнали гимназистки с платьями на плечиках, а едва лишь войдя, она увидела большую группу своих учениц. Гвалт стоял как на большой перемене, и тесно было как в гимназическом коридоре. Вдруг, словно бы ниоткуда, в центре комнаты появился господин Кац, известный в городе учитель танцев, и одним мановением руки направил весь поток прямо в зал — тот самый, что был на сегодня обещан комиссии. Елена Васильевна растерялась от неожиданности, а дверь снова отворилась, и вошла госпожа Тульчинская с дочкой Наденькой. — И Вы тоже на бал? — девочка удивлённо оглядела Елену Васильевну, но ответить та ничего не успела, потому что в фойе один за другим появились остальные члены комиссии. Толкнувшись в две-три закрытых двери, они поняли, что искать старшин клуба — дело безнадёжное. — Может, это и к лучшему: съездим на итальянцев! — рассмеялся господин Комаровский. — У нас два экипажа, и если потеснимся, то все успеем вовремя. В считанные минуты они докатили до Общественного собрания, и Елене Васильевне досталось кресло рядом с музыкальным критиком Рафаилом Александровичем Ивановым, выпускником Петербургской консерватории. Он сидел чуть боком к сцене и иронично прищуривался. Как оказалось, не зря: артист Антонелли, ведущий заглавную партию, безусловно, имел прекрасный вокал, но был очень уж слаб по драматической части. Когда же на сцене появился Бадзани с его деревянными жестами и открыл рот, по залу рассыпался откровенный смешок. Голос у певца был достаточно сильный и приятный, но он словно бы пародировал кого-то, и весьма неудачно. — Он поёт точно носом и как будто даже одной ноздрёй, — язвительно заметил Иванов. Елена Васильевна познакомилась с ним на первом спектакле итальянцев, собравшем не очень много публики. Тогда они оба отметили госпожу Кантоне — как единственно отрадное явление во всём женском составе труппы. На другой день давали «Риголетто» с господином Марри в главной партии; зал был полон, и даже самая искушённая публика осталась довольна. И пошла на «Богему», увы, прошедшую очень скучно; особенно утомили восемь синьорин, выводившие что-то совсем несуразное. Рафаил Александрович писал рецензии с модным теперь политическим оттенком, но всё же он не стал пересматривать оперные сюжеты «на предмет соответствия идеалам свободы». Между тем как многие этим страдали, что было забавно, конечно. Впрочем, и власти занимались не меньшими глупостями — ополчились, к примеру, на слово «союз», словно в нём и таилась вся страшная сила революции. И теперь шла большая волна переименований; скажем, Торгово-промышленный союз стал называться торгово-промышленным обществом, для чего учредителям пришлось поменять и печати, и бланки, и уставные документы, и удостоверения, и вывески. А кроме того, перезаключить все договоры и контракты. А вот к слову «клуб» власть оставалась вполне лояльной, хотя именно там-то и вили гнезда господа революционеры. В приказчичьем клубе, например, не так давно арестовали правление в полном его составе. В конце марта Офицерское собрание 5-го Иркутского пехотного полка известило, что нанимает буфетчика, и это был верный признак клубного оживления. Действительно: вскоре объявили о благотворительном вечере с постановкой двух пьес. Обе удались совершенно: господа офицеры и в особенности их жёны играли не только с удовольствием, но и со вкусом и с мастерством. Заявил о себе и «Кружок артистов-любителей под управлением Калугина» и «Новый кружок любителей сценического искусства» Панова. Вообще: все вокруг объединялись в какие-то кружки, давая им иногда весьма неожиданные названия — например «Кружок отдыха от труда». На железной дороге два любителя, Боганенко и Аркадьев, взялись прививать вкус к театру и музыке. Дело это оказалось нелёгким, однако молодые энтузиасты не растерялись и пошли «навстречу публике», обещая высидевшим спектакль танцы до утра. Общественное собрание вместе с Благотворительным обществом организовали небывалый праздник в Синельниковском (Интендантском) саду: полгорода развеселили и попутно собрали приличную сумму для приюта арестантских детей. Благотворительная лотерея продолжалась несколько дней, и в качестве главных призов разыграли... трёх коров, для пущей убедительности привязав их рядом со сценой Летнего театра. Животные искательно смотрели вокруг и жалобно мычали. Желающих получить их оказалось так много, что не смутила и высокая плата за вход. Одним словом, всё пришло в движение, всё «заклубилось», и лишь учительское общество оставалось в стороне. Эти образованные и интеллигентные люди, как ни странно, объединялись исключительно с целью материальной взаимопомощи, за рамки которой давно уже вышли и Клуб приказчиков, и даже Ремесленный клуб. «Приказчики и сейчас уже знают, что откроют сезон спектаклями драматической труппы Свирского, а затем её сменит труппа Оленина, а затем начнутся литературные вечера, «субботки», с представлениями и танцами. И мы к ним потянемся по гостевым билетам, — думала Елена Васильевна, — станем морщиться от пустых водевилей, но сами так ничего и не поставим. И, конечно, без труда найдём оправдание: у нас же ведь планы, тетради, нам костюмы шить не на что; нам бы хоть ссуду на квартирный ремонт получить да скидку на путёвку в учительский санаторий». Сама Елена Васильевна, кстати, ни разу не воспользовалась кредитом — просто потому, что участвовала в его распределении. В прошлом, 1905 году ссуды получили 78 учителей, но желающих было больше, да и суммы, за редким исключением, не превышали 30-50 рублей. Увы, и они гасились с огромным трудом: военный скачок цен подрывал и не такие бюджеты как учительский. К началу 1906 года число продливших кредит было так велико, что на ближайшее время пришлось вообще отказаться от всяких пособий. Елена Васильевна откровенно скучала на заседаниях Общества, где обсуждали закупку дешёвой муки, масла, сахара, мяса. Весы, привезённые кем-то из дома, так и стояли теперь в переднем углу, и, глядя на них, она думала, что во всём этом есть что-то противоестественное. А после того как одна учительница заявила, что ей дали «на целых полфунта меньше написанного», и вовсе устранилась от «продовольственной части», взяв на себя подыскание квартир сельским учителям, приезжающих на вакации. В одной частной гимназии согласились бесплатно принять коллег на каникулы; в четырёхклассном училище дали несколько комнат, и Елена Васильевна очень удачно их переоборудовала под «гостиницу». Но нынешний директор народных училищ Заостровский всё-таки остался недоволен: «Вы что же: педагогов обоих полов хотите селить в одном здании?!» К счастью, Кладищевское училище согласилось приняли женскую половину учителей, и «возмутительного соседства» удалось избежать. Свой клуб появился и у чинов почтово-телеграфного ведомства. Под него снято было довольно солидное помещение, и одну из комнат отдали под библиотеку. Наполнили её очень быстро, но с хранителем слишком поторопились, взяв первого же претендента, некоего господина Раздеришина. Он спустил всю библиотеку на первом же аукционе за 20 рублей, кои и прокутил в «Метрополе». Но клубные настроения были слишком сильны, и телеграфисты с энтузиазмом принялись заново составлять библиотеку. А вскоре открыли и «экономическую столовую», действительно, многим помогавшую. Правда, с началом массовых арестов резко упал сбор членских взносов, касса опустела, и клубу пришлось съехать в подвал; но столовая всё-таки не закрылась, только число блюд сократилось до одного. Елена Васильевна тоже сократила своё меню, но, как прежде, старалась не пропускать ни одного хорошего концерта. Особенно удачным показался ей камерный вечер, подготовленный частной музыкальной школой Городецкой, Иванова и Синицына. Сольные номера чередовались с оркестром, вокальный квартет предварялся небольшим рефератом о композиторе, и в какой-то момент Елена Васильевна ощутила присутствие Вольфганга Амадея Моцарта. Ноты падали в складки её платья, в завитки на затылке, и Елене Васильевне вспоминалось, как брат сказал однажды: «В детстве ты была такая интересная! Я всё думал, что же из тебя выйдет?» «Именно то, что и должно было, — парировала она, но сейчас, подле Моцарта, ей хотелось плакать — и Елена Васильевна заплакала. Пасхальные благодеяния В первый день Пасхи (в 1906-м она пришлась на 2 апреля) инспектор Зайцев появился в тюремном замке и объявил смотрителю, что намерен обойти камеры и похристосоваться со всеми. Смотритель в принципе мало чему удивлялся, но по нынешним переменчивым временам многое не укладывалось у него в голове. К примеру, не мог он понять, как его подопечными стали лучшие люди города, к коим он и вхож никогда не был. Что же до господина инспектора, то его, как начальника, он понимать и не пробовал, а просто принимал. Со всем, что в нём есть. И сегодня совершенно искренне улыбнулся ему: «А не угодно ли наперёд чаю с домашним куличом? И на отчётец бы мой хоть в полглаза взглянули — не нужно ли там поправить чего? В прошедшем, 1905 году в иркутский тюремный замок вошло 15238 бумаг, а 12634 — вышло. 1906 год грозил стать ещё более канцелярским. При той тесноте, что сейчас, неизбежно должны подскочить цифры заболевших и умерших, хоть и без того уж в 1905-ом скончались 50 человек, а около 180 серьёзно переболели. Преступные наклонности, как показывали всё те же цифры, находили выход и в заключении: 8 арестантов в прошлом году были замечены в буйстве, 21 сбежал, 11 уличены в краже и мошенничестве, 80 — в дурном поведении и неповиновении, а 36 пытались взломать тюремные стены. 591 заключённый получил взыскания за грубость и оскорбление чинов администрации и надзора, 36 наказаны за порчу казённых вещей. И вот с этой-то «публикой» изъявил охоту христосоваться тюремный инспектор! Он запасся терпением, но не делал над собою никаких усилий, ведь к этому дню он шёл много лет, постепенно накапливая убеждение, что если его в Пасхальные воскресенья так много прощали и удивляли, то подходит срок миловать и удивлять ему самому. Была и ещё одна причина: в иркутском тюремном управлении сохранялась атмосфера, созданная инспектором Сипягиным, при котором иногда и «живущие на свободе завидовали заключённым». Зайцев не был наделён сипягинским магнетизмом, но незлобивость и известная чувствительность выделяли его из общего ряда служащих исправительной системы. С отъездом же патрона всё лучшее собралось в нём и требовало выхода. А круг близких сужался, и не было уж такого человека, с которым можно было бы поговорить, например, об убийстве в Страстную неделю диакона Кузнецова, и о незамеченности (!) этого убийства обществом. Зайцев избегал таких тем в общении с семьёй, но всё чаще его настигали приступы отчаяния. А вчера вечером, отправляясь в Собор, он ощутил вдруг предчувствие важного решения. Оно и снизошло на него во время Божественной литургии, и Зайцев отправился в тюремный замок, даже не заехав домой. Арестанты по-разному отнеслись к неожиданному порыву инспектора. Уголовники растрогались и потом долго ещё говорили о «фарте с большим человеком похристосоваться». Известные в городе люди, попавшие в тюремный замок только по причине военного положения, пользовались случаем через инспектора связаться с родными. Те же, для кого политика становилась профессией, откровенно ухмылялись. В одном из бараков даже и заявили, что в тюрьме не до исполнения христианских обрядов. — Отчего же? — не согласился Зайцев. — В Светлое Христово воскресенье ни тюремщиков, ни арестантов быть не должно. Чудо воскрешения так велико, что пасхальное примирение — только малая дань. — Ваши сладкие речи никак не согласуются с распоряжением не пускать нас в тюремную церковь! — взвизгнул арестант из «бывших студентов». Весь наш барак лишили права на заутреню! — Объясняю: в прошлом году из тюремной церкви сбежали четверо арестантов. — Может, эти люди совсем из другой политической партии, а мы вовсе не намерены отвечать за них! — Вряд ли принадлежность к партии может давать какие-либо гарантии, но давайте не будем сегодня дискутировать, господа. Я просто поверю вам в это Пасхальное воскресенье, и все желающие смогут пройти в церковь. Далее он отправился в камеру, где находились железнодорожники. Зайцев знал, что через несколько дней многих из них отпустят, так и не предъявив никакого обвинения. Увы, введение военного положения неизбежно влекло за собой массу случайных арестов, а железнодорожники пострадали больше других потому, что поддержали прошлогоднюю забастовку. Характерно, что арестованных сразу же увольняли с работы и, как правило, уже не принимали обратно. В самом худшем положении оказались «пришлые железнодорожники», командированные из Европейской России: их паспорта были оставлены на местах, а без паспорта или командировочного удостоверения и билет ведь не продадут. — Поэтому начинайте хлопоты прямо сейчас, — посоветовал Зайцев, — если же появятся вопросы, связывайтесь со мной через господина смотрителя, — и он уехал домой с приятным чувством исполненного долга. Город медленно просыпался, лишь мальчишки-газетчики оживляли сонные улицы. Ещё за неделю до праздника редакции предупредили, что прекращают приём рекламы, но, конечно, не удержалась и в последний момент, в уже свёрстанные номера втиснули несколько невычитанных объявлений. В результате вместо «Фауста», имевшего быть сегодня в Общественном собрании, пригласили на «Сельскую честь». «После спектакля кто-нибудь непременно разыщет издателя-редактора «Сибирского обозрения» Манна и, конечно же, попеняет ему. Манн пообещает разобраться с корректором, но тот как-нибудь извернётся, и в следующем номере известят, что во всём виновен метранпаж», — Зайцев улыбнулся, но сейчас же и поморщился: слово «виновен» всегда настраивало его на строгий лад, а день сегодня был такой чудный. Пожалуй, к вечеру можно бы отправиться и на дачу — в низовьях Иркута места удивительные, правда, городская управа всё никак не исправит дорогу, и как бы не пришлось открывать сезон в конце мая. Многие, не желая «вкушать прелесть военного положения», раньше времени выезжают в Европу. Будь у Зайцева отпуск, он и сам отправился бы в Берлин — там, на Фридрихштрассе, в трёх минутах ходьбы от вокзала давно уже облюбованный пансион — дешёвый, но при этом со всеми удобствами и прислугой, говорящей по-русски. Впрочем, и в Иркутске пасхальные дни обещали стать интересными: 4 апреля в местном Шахматном обществе должен состояться сеанс одновременной игры. Московский любитель Боярков, встречавшийся и с мировыми знаменитостями, приглашён и, говорят, уже прибыл на прошлой неделе. Приготовления к Пасхе несколько отодвинули сеанс одновременной игры, и теперь у Зайцева опасение, как бы москвич не стал жертвой иркутского гостеприимства. Право, будет обидно, если он потеряет форму и не оправдает стольких ожиданий: на игру записались уже семнадцать любителей, и почти столько же вызвались быть помощниками-консультантами. Начало сеанса назначено было на 12-30, и Зайцев не сомневался, что приедет одним из первых, однако площадка у дома Шитикова на Средне-Амурской была уже вся уставлена экипажами. «Выехать будет не просто», — торопливо подумал он, берясь за ручку двери — и окунулся в пьянящую атмосферу предстоящего состязания! Он любил это место за собрание умных, интересных и при этом таких милых людей, что порою можно было тешить себя наивною мыслью, что и большинство таково. Инспектор и на этот раз вынес обманчивое, но приятное заключение; что же до результата игры, то он многих удивил: несколько иркутских любителей поставили господину Бояркову мат! Это событие на известное время затмило все другие, и лишь неделю спустя, перечитывая газеты, инспектор восстановил всю картину пасхальных новостей. Иркутянин Василий Петрович Кочкин в самый канун Светлого Христова воскресенья пожаловал на гауптвахту и с каждым из сотни отбывавших здесь наказание похристосовался мясными пирожками, яйцами и сладкими сайками. Гласный думы Шишкин, недавно вступивший в должность почётного блюстителя Иркутского городского Преображенского училища, облагодетельствовал подопечных ежедневным чаем на большой перемене. Шишкин сам выбрал два больших самовара, чайники, раздвижные столы, полотенца, оплатил доставку воды и приготовление чая, на год вперёд обеспечил сахаром и заваркой. Букинист Лужин, каждый день открывавший свою лавку на Арсенальской площади, решился-таки на маленькую передышку. Но прежде чем уезжать, выдал щедрые «пасхальные» дворнику и квартальному да наказал им смотреть в оба. Кабы догадаться ему, что опасность придёт вовсе не от воров, а от талой воды, стекающей со всех ближайших возвышенностей! За несколько дней, пока город отъедался и спал, водопроводная канава, вырытая впритык к лавке Лужина, переполнилась и начала топить цокольный этаж. Разыскав одного из членов управы, букинист пригрозил ему иском за неправильное устройство водопроводных канав, и вернулся спасать то, что можно ещё. Следующее утро он встретил в цоколе по колено в воде. А поднявшись наверх, обнаружил, как к опасной канаве с базара приближается господин Шевич в открытом экипаже и с большой сахарной головой в руках. Первой мыслью Лужина было предупредить, и он уже бросился навстречу Шевичу, но остановился. И наблюдал, как экипаж проваливается в канаву, как Шевич роняет сахарную голову, а затем и сам принимает грязную ванну... Вот теперь был удобный момент поздороваться, посочувствовать, натурально, спасти и заключить-таки союз против управы. Вечером того же дня в той же водопроводной канаве утонула соседская курица, всегда ходившая этим путём и не рассчитавшая силу опасности. Букинист и её отловил — как ещё одно «вещественное доказательство». Не угодно ли выслаться? Поверенный Кроль очень не любил понедельники, и отнюдь не по общей причине — в его профессии отдых вообще был понятием относительным. Просто по понедельникам присяжному поверенному не хватало газетной хроники, с коей он сверял сложившуюся картинку мира. А в последние два года она устаревала как никогда быстро. Ещё не всех отличившихся в войне с Японией наградили, а медали предлагались уже по сходной цене — 1 рубль 50 копеек за штуку. Перекупщики не скрывали, что надеются выгодно перепродать их коллекционерам. Кроль давно уже не заблуждался относительно человеческой природы, но всё-таки: пока шла война, сама мысль, что медали могут продаваться, показалась бы кощунственной, а сейчас она стала просто расхожей мыслью. Ещё недавно в Иркутске была мощная «городская партия», состоявшая как из весьма состоятельных, так и совсем не богатых людей. Вместе они устраивали благотворительные спектакли, концерты, лекции, открывали бесплатные кружки. Теперь же в городе обосновались представители разных партий, одинаково равнодушных к Иркутску и черпающих энергию в конфликте. В ночь на 13 апреля нынешнего, 1906 года один социал-демократ, подъехавший к дому г-жи Ивашевской на углу Дёгтевской и Троицкой улиц, не захотел расплатиться. И в ответ на недоумение извозчика несколько раз ударил его тростью. На крики сбежались проснувшиеся жильцы, в том числе и один из эсеров. Тотчас распознав в нём политического противника, социал-демократ снова бросился в драку. Понадобился целый наряд полиции, чтобы «рыцари ночи» разошлись, наконец, потрёпанные, но готовые к новым схваткам. Тем временем иркутские члены Русского Собрания распространяли прокламации о масонах и старательно составляли списки желательных кандидатов на выборы в Государственную Думу. 5 апреля в Тихвинской церкви выбирали представителя в Государственный Совет от иркутского городского духовенства — но при этом многих из духовенства «забыли» пригласить. «Если уж в церквях такие страсти, можно представить, каковы будут общие выборы», — размышлял Кроль и скоро находил подтверждение этому в местных газетах. «Учителя Тобольской мужской гимназии Никольский и Гашинский так усердно посещали знакомых и незнакомых обывателей, предлагая подать голоса за Г., что из одного дома их просто выпроводили, — сообщало «Сибирское обозрение». — Во время выборов в прихожей стоял столик, а за ним — чиновник, вписывавший фамилии за неграмотных крестьян. Было подсмотрено, что крестьянин просил записать Скалозубова, а чиновник записал совершенно другого». «Конечно, в этом случае можно настаивать на составлении протокола, — начинал оценивать ситуацию Кроль. — Но если при этом поднимется шум, то его, по меркам военного положения, могут истолковать как «беспорядок». И глазом не успеешь моргнуть, как объявят противником существующего режима — со всеми вытекающими последствиями. Теперь ведь даже традиционные красные рубахи расцениваются «как революционные». Но самым явным пережимом властей стало трёхмесячное заключение иркутской гимназистки Фриденсон, с последующей высылкой барышни из Иркутска. Вся вина её, между тем, заключалась лишь в самовольном участии в 1905 году в педагогическом совещании. Куда разумнее было бы оставить барышню в семье и даже допустить до занятий — тогда раскаяние не замедлило бы явиться. А после скитаний «в людях» из неё может выйти уже законченная нигилистка. Глупо, глупо — тем более, что ситуация переломилась: в Общественном собрании, где четыре месяца назад проходили военные митинги, теперь судят их участников». Несмотря на врождённый скептицизм и внешнее равнодушие к мнению окружающих, поверенный Кроль ощущал потребность считаться вполне порядочным человеком — и всегда умел убедить себя, что именно таковым и является. Он не верил ни в конечное торжество добра, ни в героев-одиночек, но при этом не раз наблюдал, как в уже разыгранной партии какой-нибудь неприметной фигурой делался неожиданный ход — и всё менялось. Скажем, учительница Третьякова объявляла строительство здания на Детской площадке — и солидные господа, словно бы под гипнозом, давали деньги, материалы. А некто Станиловский вызывался читать бесплатные лекции для детей, проводить экскурсии по окрестностям. Кроль всегда усмехался, встречая его, но отчего-то очень огорчился, узнав, что Станиловский убит. Для самого поверенного опасный период, начавшийся с забастовок и приведший к военному положению, завершался на редкость благополучно: он не только жив-здоров, на свободе, но даже и списков на высылку миновал, в отличие от многих коллег. Ещё немного — и отправится за границу отогреться, подлечиться, набраться впечатлений, начитаться иностранных газет. Кстати, издатель «Восточно-Сибирского календаря» Сеглин на днях получил разрешение на «Торгово-промышленный листок», который будет выходить по понедельникам! За столь приятными мыслями и застал поверенного Кроля курьер из Жандармского управления. Пообещав «тотчас быть», он, действительно, нанял извозчика, но поехал окольным путём — и успел-таки подготовиться к разговору. То есть, собственно, убедить себя, что ничего страшного не произошло: если бы его думали арестовать, то, уж верно, сделали бы это; расстрел и тем более не грозил. Самое худшее, что может произойти — высылка, но и на это ведь как посмотреть... Кроль сосредоточился, вспоминая разные повороты и тупики действующего законодательства — и ощутил прилив хорошего настроения. Офицер вгляделся в его лицо, немного подумал и уже с оттенком извинения в голосе сообщил: — Все отзывы о Вас весьма благоприятны. Однако в силу военного положения, а также в силу известного приказа генерал-губернатора. Одним словом, не угодно ли ненадолго выслаться из Иркутска? — Угодно. Но из Сибири в Сибирь — какой в этом смысл? — с удивлённой улыбкой спросил поверенный. — Вы, должно быть, знакомы со всеми нюансами законодательства, и поэтому для Вас не секрет: за высылаемым сохраняется право выбора места. Так вот, я выбираю. Петербург. «Куда и отбыл», — известило «Сибирское обозрение» в номере от 15 апреля 1906 года. ...К экспрессу Кроль прибыл в прекрасном расположении духа, как после безнадёжнейшего процесса, который оказался неожиданно выигран. Он и всю дорогу до столицы распланировал в мельчайших подробностях, дабы вынужденное путешествие превратить в приятное времяпрепровождение. Своя прелесть была и в том, что вагон наполовину пустовал. Однако в Красноярске подсела студенческая компания — и началось: — О, так Вы учитесь с Харинским? — взвизгивала от восторга миловидная барышня. — Очень, очень хорошо: возможно, хоть Вам известно доподлинно, к какой партии он принадлежит? — Раньше он разделял платформу БМ, а теперь придерживается МУ, — отвечал ей брюнет с прыщавым лицом. И заметив недоумение Кроля, пояснил, несколько свысока, — БМ мы называем безнадёжные мечтания, а МУ — мудрые умолчания, — и чрезвычайно довольный произведённым эффектом, продолжал, обращаясь уже исключительно к барышне. — Что же до меня самого, то едва ли найдётся такая арена борьбы, как в нашем семействе. Старуха-нянька — отъявленная эсерка, хоть не знает, наверное, этого слова. Горничная — социал-демократка (с той самой поры, как закрутила роман с фабричным). Кухарка, когда не стоит у плиты, готовит речи в погромном стиле — и это несмотря на пристрастие к маменькиным духам! Сестра вслед за мужем увлекалась господином Столыпиным, а племянники от рождения ходят в кадетах — это я их распропагандировал. Во всяком случае, так утверждают мои собственные родители. — Да они у Вас просто оппортунисты, — манерно процедила третья барышня, уж лет пять как на выданье. Молодой человек приобиделся и хотел возражать, но Кроль успокоил его, заметив вполголоса: «Она это так, для форса сказала». И добавив, громче уже «Нынче к модному платью прилагается модный разговор...», вышел в тамбур — покурить. Двенадцать фокусов К середине апреля 1906 года юмористические журналы, конфискованные Жандармским управлением, заняли не только все подоконники канцелярии, но даже и проходы между столами. С молчаливого одобрения старшего делопроизводителя их брали на растопку печей, но много ли унесёшь незаметно, а на большее без команды начальника управления не решался никто. За год с небольшим у главного жандарма губернии Кременецкого составилась целая библиотека изданий с сатирой на существующий режим — и талантливых, и примитивных до пошлости. Все их Кременецкий внимательно перечитывал, но никогда не делал этого у себя на квартире: в его семью не допускалось ничего чужеродного. И вот именно в этом-то заповедном пространстве объявились вдруг неизвестно откуда взявшиеся «12 фокусов для увеселения общества в домашнем кругу» фирмы «Штрумфельд и Ко» из Варшавы. Было совершенно исключено, что жена купила их или выписала — но тогда как они оказались в кабинете, поверх бумаг? Спросить об этом было, увы, не у кого — Кременецкий только что отправил супругу московским поездом. И теперь, озадаченный, он вертел эту книжицу, словно надеялся отыскать тайный шифр. Первым описывался известный фокус «Угадать, сколько кому лет» — и Кременецкий невольно усмехнулся, вспомнив обширную картотеку в управлении. Не задерживаясь на «фокусе», перешёл к «Юмористическому фотографическому аппарату». Оказалось, что это — всего лишь изображения с эффектом кривых зеркал. И «Секретная фокусная книжка» разочаровала, а «Стреляющие картинки» и вовсе показались рассчитанными на детей. «Не больно-то расстарались вы, «Штрумфельд и Ко, — подытожил Кременецкий, — любой из иркутских приставов даст вам десять очков вперёд». Да, недавно приставу второй полицейской части Иркутска предложили за взятку в 100 рублей уничтожить один опасный протокол — и он эти деньги взял; но при этом и протоколу дал естественный ход. А вырученная сумма поступила в детский приют, что и подтвердила его попечительница А.А.Звонникова в ближайшем же номере «Сибирского обозрения». А вот «фокусник», устроивший крупную кражу в городском ломбарде, пока неизвестен. Но его искусность вне всяких сомнений: в день кражи таинственным образом оказались сняты все ближайшие полицейские посты, а парадная лестница, несмотря на выходной, открыта. Воры взяли всё, что хотели (на 90 тысяч рублей) и спокойно прошли с большими узлами через весь Мелочной базар в известном лишь им направлении. Теперь перепуганные вкладчики обивают пороги ломбарда и городской управы, требуя оплатить им убытки. Однако нет худа без добра: происшествие отвлекало обывателя от политики, что сейчас же отразилось на отчётах агентов Жандармского управления. Вот только эта странная история с «12 фокусами» не выходит из головы! Жена написала ему, как и обещала, сразу же по приезде, и в её протяжных, закруглённых фразах, совершенно без нажима, было так покойно... Но постскриптум всё испортил: жена спрашивала, для кого же он выписал «Набор фокусника». «Для приюта», — тотчас написал Кременецкий, дабы сразу же исключить супругу из дальнейшего развития этого «сюжета». Отправив письмо со служебной почтой, он пригласил дворника Филиппа. И тот, приученный к аккуратному обращению даже с брошенными бумагами, осмотрел все корзины с растопкой для печей. И принёс-таки хозяину небольшую коробку из-под бандероли, на которой Кременецкий обнаружил сосем небольшую пометку «Доставка на квартиру оплачена г. Нелей-корыто». Фамилия не проходила по картотекам, то есть, отправитель был не тот, кто придумал этот «фокус». Но всё же его можно было найти, приложив достаточные усилия; правда, тогда о шутке над первым жандармом губернии стало бы известно подчинённым, а полковник и мысли об этом не допускал. Кроме того, он с досадой признавался себе, что авторами «сюрприза» могли быть и недовольные им сослуживцы, и даже местные газетчики, писавшие о «политических фокусах» и о «ежовых рукавицах под этикеткой свободы». Никто из них не поверил бы, но и самому Кременецкому очень не нравилась та неблаговидная роль, которая отведена жандармам. Да и кому же понравится приравнивать к государственному преступлению естественную, здравую критику власти? Кому захочется возбуждать дела по событиям полугодовой давности, да ещё и попавшим под амнистию? Брать под стражу, ссылать без суда? В сущности, жандармерия превратилась в краплёную карту в колодах столичных политических фокусников. Все эти игры можно было остановить только высочайшею властью, а покуда жандармы выстраивали казачьи пикеты в окрестных рощах, «не допуская до собраний», Кременецкий с утра разъезжал по промышленным заведениям, упреждая возможную забастовку. Станцию Иннокентьевскую и станцию Иркутск взял под личный контроль начальник Забайкальской дороги Свентицкий, но кончина жены выбила его из колеи, и 18 апреля более ста рабочих всё-таки не вышли на смену. Нескольких из них тут же арестовали, а во всех видных местах появилось объявление: «Забастовщикам срочно зайти за расчётом». После двух дней затишья в Иркутске встали типографии, кроме губернской. Однако на другое утро всё пошло обычным своим чередом, газеты вышли, и тон их был спокойный и взвешенный — «пружинка» явно не сработала. Кременецкий впервые за последние десять дней спокойно перечитал газеты. И узнал, между прочим, что Общественному собранию не удался обычный фокус с арендой за смехотворную сумму «вокзала» в Интендантском саду. Торги дали без малого семь тысяч рублей, а вместе с деньгами за аренду Летнего театра вышла сумма, весьма превысившая «достижения» прежних лет. «Вот так бы, без фокусов, с пользой для города сдать и подряд на электрическое освещение, — невольно подумал Кременецкий, — пока есть конкуренты и даже «Всеобщая компания электричества» ведёт переговоры с иркутской думой». А вот «переговоры» жандармов с прокурорским надзором продвигались всё хуже: только-только управление начинало разработку политических связей какой-нибудь фельдшерицы Даринской, как прокурорские заявляли: хранение нескольких прокламаций, само по себе, ещё не является преступлением, и нет причин оставлять женщину в тюрьме. «Отчего же вы раньше не вмешивались, отчего не брали под защиту докторов, педагогов, присяжных поверенных? — в раздражении думал полковник. — А оттого, что и вам страшно было попасть под общий каток! Теперь же, когда он идёт только в силу инерции, вы, прокурорские, повыскакивали из кустов и замахали флажками: «Хранение прокламаций не является преступлением!» 22 апреля через Иркутск, с небольшой остановкой, проехал генерал Ренненкампф, уже без пулемётов, без артиллерии и собственно без карательного отряда. Было очень похоже, что это — последний его приезд, и все встречавшие испытали внутреннее облегчение, хоть и кивали, поддакивали, не желая испытывать судьбу. Между тем, гимназистам, арестованным в ночь на новый год и теперь выходящим на свободу, разрешили держать экзамены, и даже Л.Фриденсон по этой причине отсрочили высылку. Правда, общую радость учащегося Иркутска омрачило самоубийство одной юной особы, Татьяны Рысевой, служившей в канцелярии мирового судьи Савицкого. Накануне она потеряла пакет с документами и страшно боялась наказания. Раздосадованный судья кричал, что «жандармы наши совсем запугали молодёжь, и теперь ей всюду мерещатся тюрьмы!» Впрочем, «гроза» оказалась недолгой — Савицкий был завален работой, как и все судейские. Исков накопилось на несколько лет вперёд, и недавно разбирали дело о краже, совершённой аж в 1902 году. Свидетели, вызванные из деревни Касьяновка Балаганского уезда, добирались до Иркутска несколько дней — лишь затем, чтобы сказать: « Да не помним уж мы ништо об энтом деле!» На политической подкладке Поезд на Москву, отправлявшийся днём, выставили уже рано утром, и сразу же засновали вокруг служащие с коробками, полными документов. А набралось их около 1500 пудов. Затем потянулась многочисленная прислуга с тюками вещей и корзинами, наполненными провизией. Наконец, прибыли и сами господа, определились с местами — Иркутск покидало Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги. Основные работы закончились ещё более года назад, и тогда уже местная пресса начала намекать, что надо бы сократить разбухшие штаты за ненадобностью, а отчёты заканчивать уже в Петербурге. «Впрочем, вряд ли управление добровольно откажется от «столовых», «квартирных» и прочих дополнительных выплат», — добавляли ироничные корреспонденты. И в самом деле: с отъездом затянули на целый год. Двумя часами позже в том же, западном направлении отбыл ещё один поезд, на который так же не продавались билеты — просто те, «кому следует», знали, что на станции Иннокентьевской сядет рота пехоты с двумя пулемётами. Кто-то окрестил этот поезд карательным, однако хроникёр «Сибирского обозрения» всё-таки уточнил: «так называемый карательный», потому что с недели на неделю уже ожидали отмены военного положения и амнистии всех «политических». Недавние арестанты из присяжных поверенных не разделяли общего оптимизма, но и они бодрились: — По нынешним временам как-то даже неловко находиться вне тюрьмы, — шутил Орнштейн. — Хоть куда безопаснее «честно молчать», — с улыбкой добавлял Фатеев. За три месяца пребывания в тюремном замке Иван Сергеевич Фатеев до малейших деталей распланировал, как проведёт первый день на свободе, однако с самого начала всё пошло не так. Город, по которому он соскучился, жил своей, отдельной жизнью, в которой зеленеющие пригорки значили куда больше, чем ощущения порядочного человека, вдруг попавшего в камеру предварительного заключения. Соседи, сочувственно покивав, пустились пересказывать новости: о жеребце, неожиданно взявшем победу в апрельском забеге, о начальнике юнкерского училища полковнике Станковском, недавно представлявшемся Государю; о священнике Верномудрове, помирившемся-таки с ученицами второй женской гимназии; о старейших иркутских благотворителях Иване Мыльникове и Якове Патушинском, которым «высочайше воздали недавно Святой Анной». Всё это Фатеев уже знал из газет и потому, без дальнейших расспросов поспешил в дом Попова, где размещалось теперь «Сибирское обозрение». Номер сдавался в печать, но сейчас же все оставили дело и обступили «страдальца» и «узника», усадив его на диван в редакторском кабинете. Иван Сергеевич сразу объявил, что отправляется на лечение за границу и даже спешно продиктовал объявление для клиентов. Но поздно вечером, возвращаясь домой, он поймал вдруг себя на странном ощущении, что с поездкой, возможно, стоит повременить. На другой день он встречался с товарищем по несчастью Борисом Сергеевичем Орнштейном, и в этом, новом качестве свободных людей, они показались ещё более симпатичны друг другу. Между прочим, Орнштейн сообщил о готовящемся процессе над телеграфистами, не принявшими высочайшую телеграмму. Мысленно Борис Сергеевич уже выстроил линию защиты, но ему хотелось и Фатеева приобщить. Сначала Иван Сергеевич наотрез отказался, но несколько дней спустя, отоспавшись, наговорившись с близкими, стал задумываться и о предстоящем судебном слушании. Между тем, ситуация в городе складывалась чрезвычайно противоречивая: обывателям предлагалось участвовать в свободных выборах в Государственную Думу, но в то же самое время в Иркутске сохранялось военное положение. Политзаключённые местной тюрьмы несколько дней проспорили над текстом приветственной телеграммы к открытию Думы, но прокурор окружного суда в две минуты наложил резолюцию: «В отправке отказать!» Пока все возмущались, один «политический» воспользовался разрешением на свидание с женой и передал ей текст телеграммы. День открытия Думы отмечен был и ещё одним происшествием: в иркутском тюрьме начали летний сезон, то есть прекратили отпуск дров на отопление камер — по той причине, что вторая половина апреля выдалась непривычно жаркой. Но именно в ночь с 26 на 27 апреля в Иркутске ударил мороз в десять градусов! Утром всех полицейские части и пожарные команды были украшены флагами, не отстали от них и некоторые общества. Из опасения митингов отменили занятия в школах; отпустили и рабочих казённых винных складов, на остальных же предприятиях продолжали работать. В городской управе с утра заговаривали, нет ли повода разойтись по домам, и приступали с вопросами к исполняющему должность головы Юзефовичу. Тот, по привычке уходить от ответов, лишь пожимал плечами, но ближе к полудню съездил-таки к губернатору. Однако выяснил только то, что «сверху никаких указаний не поступало». В час дня в кафедральном соборе архиепископом Тихоном была совершена литургия, а после неё и торжественное молебствие, на котором присутствовали начальствующие лица всех ведомств. Присяжные поверенные Фатеев и Орнштейн постояли и здесь, слушая здравицы «Государю, даровавшему России право народного представительства в управлении государством». В Иркутске только в самый канун выборов начали представлять свои цели и задачи кадеты и прогрессивный блок, состоявший, главным образом, из докторов, коммерсантов, инженеров и педагогов. Самым первым начало агитацию собрание «истинно русских людей», убеждённых, что «Государственная Дума ни в коем случае не может изменять что-либо в основных законах». Их воззвания без труда проходили цензуру и печатались на хорошей бумаге в казённой типографии. «Это даёт нам право предполагать, что и агитация других партий не встретит препятствий со стороны администрации края», — замечало «Сибирское обозрение». Оно не подозревало ещё, что само стало жертвой предвыборных манёвров: одному из корреспондентов на условиях конфиденциальности предложили «Список иркутских выборщиков от партии октябристов». Правда, он никем не был подписан, но кто же в такую пору будет ставить подпись без крайней нужды? Коротко говоря, листок тут же был переправлен наборщику, и лишь на другое утро, когда газета вышла, стало ясно, что октябристы записали в свои ряды и самых убеждённых противников. Первым подмену обнаружил инженер Бржозовский — и немедля потребовал объяснений. Выбор у редактора был не большой: либо признать, что репортёр оконфузился, либо сослаться на происки тайных недоброжелателей. Господин Манн предпочёл второе. В апреле иркутские социал-демократы претерпели неожиданную метаморфозу: ещё недавно они в своём «Летучем листке» глумились над выборами в Думу как «гнусной комедией» — теперь же вдруг решили участвовать в «гнусности». «Воображаю положение партийных ораторов перед рабочими, которых они теперь будут приглашать пить из колодца, в который только что наплевали», — иронизировал корреспондент «Сибирского обозрения». До весны 1906 года, следуя договорённости, редакция воздерживалась от полемики с социал-демократами, но в одном из «Летучих листков» иркутские большевики поместили на «Сибирское обозрение» злую карикатуру «Мы хотим идти с царём против народа» — и противостояние возобновилось. Пока партии враждовали, а жандармская полиция гонялась за всеми ними и каждой в отдельности, пропали неизвестно куда 9 тысяч вагонов с интендантским грузом. «Какой же величины должны быть у господ неизвестных карманы, если в них свободно уместилось 7 миллионов пудов груза?» — вопрошало «Сибирское обозрение». Тут же сообщалось, что «в городе организовалась и недавно открыла свои действия компания занимающихся кражею живности». Удивительно, но преступники предпочитали действовать в центре города, где много ночных сторожей; и одежда на них была очень запоминающейся, чего стоил один жёлтый пиджак молодого кокета! Животные всячески способствовали поимке своих нахальных похитителей: куры издавали протестующие крики, утки с завязанными носами вырывались из рук и бросались под ноги — тем не менее, ворам всякий раз удавалось скрыться, к полному изумлению горожан. Незаметно подкралась и опасность соляного кризиса. До недавнего времени Усольский завод производил ежегодно по 360 тысяч пудов, то есть, ровно столько, сколько и требовалось для снабжения Иркутской губернии и Забайкальской области. Якутия же располагала собственными рудниками, в крайнем случае прикупая соль в Усть-Куте. И Енисейская губерния не имела нужды в нашей продукции, поэтому на заводе образовался более чем годовой запас. Но в 1901 году, во время боксёрского восстания в Китае, проходящие через Иркутск войска основательно подъели соль, и добычу её увеличили до 500-550 тысяч пудов в год. С началом русско-японской войны резко возросло потребление на Дальнем Востоке, и на фронт, среди прочих, пошли «солёные» поезда. Коммерсанты начали скупать дефицитный товар в Иркутске, а когда здесь наметился кризис, прибегли к посредничеству крестьян — им соль отпускалась прямо с завода, без всяких ограничений и всего лишь по удостоверениям волостных правлений. Так продолжалось, пока в Усолье не оставалось всего 20 тысяч пудов. Спокойнее всех в эту пору ощущала себя фирма «А.Ф. Второв и сыновья»: обороты росли, воровство и мошенничество пресекались в зародыше. В конце апреля, подсчитав выручку от пасхальной торговли, обревизовав приказчиков, администрация присмотрелась и к приказчицам. И пришла к выводу, что одежда их неподобающе разных цветов. Тотчас же и явилось распоряжение: летом надевать исключительно серые платья, а зимой — исключительно чёрные. Время трудных решений Выйдя из телеграфа, антрепренёр Кравченко не прошёл и квартала, как был остановлен тремя прохожими, и всё с одним и тем же вопросом. Кончилось тем, что он взял извозчика, а приехав в театр, вывесил у кассы объявление: «По городу ходят слухи, что знаменитая артистка Савина будет выступать в иркутском Летнем театре. Это неверно, гастроли совершенно не состоятся». Первая телеграмма из Москвы с просьбой освободить от контракта пришла, когда была продана уже треть партера и лож. В ответном, слёзном послании, очень напоминающем монолог из популярной пьесы, Кравченко убеждал, умолял, а в конце напомнил о неустойке. Из Москвы ответили «Срочной»: «Просим взять неустойку, но освободить от контракта». Это был конец, и взбешённый Кравченко, закрывшись в гримёрке, дал волю чувствам! Досталось от него и злой фортуне, и газетчикам, напугавшим артистов карательными экспедициями в Сибири. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта сцена без зрителей, но постучался Брюшков — антрепренёр, более известный иркутянам под сценической фамилией Вольский. Без малого год назад он объявлен был несостоятельным должником и, натурально, бежал из города с «навсегда утраченной репутацией». И вот уже прибыл снова, да не один, а с французской кафешантанной труппой. Приятели отправились в Общественное собрание и успели ещё посмотреть заключительный номер концерта. Софья Абрамовна Светлова читала басню с явным политическим намёком, а намёки ей, как правило, удавались вполне. Вольский даже бисировал и не без гордости думал о том, что это он взрастил её как актрису и антрепренёршу. — Мы, артисты средней руки, безнадёжно застрявшие в Сибири, в чём-то и посильнее будем столичных знаменитостей! — словно вторя ему, заключил Кравченко. На другое утро он отправил Савиной телеграмму в одно предложение: «Освобождаю вас от выплаты неустойки». Когда стало окончательно ясно, что Савина не приедет в Иркутск, и Зонины переменили свои майские планы. Нина Андреевна решила определиться с дальнейшим музыкальным образованием Кати. Начинала она, как и все, в классах Иркутского отделения Императорского русского музыкального общества, и преподавание вполне устраивало Зониных, в особенности класс Рафаила Александровича Иванова. Но в прошлом году он решительно порвал с дирекцией и вместе с педагогами Городецкой и Синицыным открыл частную музыкальную школу. Это стало полною неожиданностью для Нины Андреевны, и метания её кончились тем, что выбран был промежуточный вариант — уроки у француженки Брюно. Между тем, частная музыкальная школа подготовила несколько очень хороших концертов, и дирекция Императорских классов стала зазывать Рафаила Александровича обратно. Родители учеников заметались, но «Сибирском обозрение» разом всех успокоило, напечатав коротенькую заметку: «Г-н Иванов, связанный теперь частной музыкальной школой, предъявил условия, найденные дирекцией Императорского Русского музыкального общества неудобными для себя». Алексей Иванович Зонин ничуть не удивился и посоветовал Кате «не медлить с очевидным решением» (правда, не уточнил, с каким). Кате же с её нынешней отстранённостью от происходящего ничего не хотелось: после отъезда Владимира её существование протекало как бы само по себе: сразу после завтрака подавалась лошадь — и Катя ехала на занятия, и день катился, как в гаммах, до самого верхнего «до», а потом медленно ниспадал обратно, и нижнее, уже прерывистое «до» окончательно угасало, когда Катя засыпала. Её окно выходило на Крестовоздвиженскую церковь, и Катя знала, что там каждый день отпевают не менее четырёх умерших от кори, и по утрам, тяжело просыпаясь, думала, что тоже заболела и скоро, скоро умрёт. Но в дверь стучалась Нина Андреевна — и свежее, здоровое утро входило с ней в Катину комнату. Уроки у мадам Брюно теперь тянулись как никогда — может быть, оттого, что рядом не было Сони Глембовской. Эпидемии кори ей удалось избежать, но вместе с младшей сестрой она не убереглась от скарлатины, и две недели их жизнь висела на волоске. Вчера Нина Андреевна привезла от Глембовских добрую весть, что обе девочки пошли на поправку. Правда, и в этот раз в рукаве у Нины Андреевны была спрятана щепотка перца: поклонника Сони, студента Петербургского университета Евгения Тимофеева приговорили к 10 годам каторги за соучастие в убийстве директора Путиловского завода. До отъезда в столицу Тимофеев имел большое влияние на иркутскую молодёжь. Он и Кате был симпатичен, но её настораживало, что в 21 год молодой человек ещё только сдавал (экстерном) экзамен за гимназический курс. И если Володя мог рассуждать о сложнейших приборах, то Тимофеев знал лишь одним механизм — влияния на людей. В любых «декорациях» он умел встать в эффектную позу, но больше всего брал слушателей пассажами об Иркутске. Однажды он на виду у публики дошёл до середины лужи и разразился оттуда монологом: — Если только человечеству суждено изобрести настоящий воздухоплавательный снаряд, то его выдумают непременно в Иркутске — и только в Иркутске! Потому что невозможно найти другой город с такими невыразимыми улицами, при виде которых не являлось бы желание иметь за спиной крылья. И я совершенно серьёзно предлагаю русскому правительству согнать всех «внутренних врагов» в Иркутск, дождаться хорошего дождичка и провести крамольников босиком от Глазково и до самых последних заборов Рабочей слободы. Вот тогда бы все они и «восчувствовали» и вразумились! А главное — можно было бы сэкономить на карательных экспедициях... Евгений Тимофеев любил сталкивать противоположности, говорил «круглый квадрат», «сухая вода» — и смеялся при этом. Казалось, что в каждой складке его свободного костюма таилась шутка или забавный каламбур. Он всё делал весело, легко и ничуть не задумываясь о последствиях. Гимназисты беспрестанно цитировали Евгения, гимназистки называли его Евгением Онегиным; впрочем, после отъезда скоро и позабыли, только Сонечка Глембовская писала «Онегину» безответные письма. Её мама, кажется, догадывалась, но отец оставался в совершенном неведении. Он вообще с трудом отрывался от дел, вот и теперь его больше занимало судоходство на Ангаре: — Навигацию можно считать открытой, — с порога известил он Алексея Ивановича, — но при этом управа никак не способствует правильному движению. Понтон разводится не ежедневно, а только два раза в неделю, и пароходы по двое-четверо суток проводят в глухом ожидании! — Да, управа (и в особенности господин Юзефович) активно отстаивает интересы арендаторов моста, — задумчиво отвечал Алексей Иванович, — однако, не угодно ли в кабинет? Это значило, между прочим, что настала очередь политических новостей. И крепчайшего кофе, который никогда не подавался при дамах. Рассевшись в креслах, господа начали обсуждать свежий номер «ХХ века», где напечатан текст и ноты «Гимна избранникам народа». — Сегодня ещё до полудня у разносчиков не осталось газет — настолько все зачарованы Государственной Думой, — начал Глембовский. — И настолько же будут, вероятно, разочарованы, — вставил Зонин. — Что и не удивительно, в сущности: откуда возьмутся деятели, отличные от тех, которые их выдвигают? — Иркутское общество приказчиков в третий раз отклонило приглашение министерства торговли и промышленности обсудить законопроект об отношениях хозяев и служащих, и ведь каков у каналий «аргумент»: «только законы, разработанные народными представителями, могут соответствовать интересам трудящихся». — Зонин нервно потянулся к коробке с папиросами но, закурив, закашлялся. Глембовский, оглядев папиросный столик, покачал головой: — И Вас провели, и Вам вместо «Зефира» прислали ядовитую гадость... Увы, увы, началась уже эра беспрецедентных подделок и очень хорошо организованных авантюр. Не слыхали: у иркутской фирмы Второва на станции Обь перехватили большую партию товара на 80 тысяч рублей. Некие респектабельные господа предъявили на этот груз вполне убедительные документы, и всё до единого фунта перенаправили в Томск. Пока из Иркутска бежали тревожные телеграммы, товар успели переложить на повозки и отправить в далёкий Нарымский край, где следы его и затерялись. Благополучнейшая из торговых фирм столкнулась с невидимым, но чрезвычайно опасным врагом. Но в Иркутске этот конфуз прошёл просто незамеченным, ведь весь город был охвачен предвыборным ажиотажем. — А согласитесь, — оживился Алексей Иванович, — неплохие шансы имела в этот раз Трудовая группа. Октябристам же и Правопорядку остаётся лишь составить двухпартийный блок. Я вообще полагаю, что блоки неизбежны, и нужно учиться грамотно их выстраивать. — Нам бы для начала избавиться от заурядных склок. Намедни взял я иркутский сатирический журнал «Овод»; листал, листал, но решительно никакой критики действующей власти не обнаружил. Зато сколько желчи в адрес коллег по газетно-журнальному цеху! Ничуть не удивляюсь, что новый наш генерал-губернатор Алексеев даёт свет печатным изданиям, остановленным жандармами. — К нам в губернское управление на прошлой неделе заглянул редактор одной из местных газет и между делом анекдот рассказал, чрезвычайно похожий на действительность. Фельетонист, регулярно высмеивавший беспорядки при посадке в поезда, отправился отдохнуть. На вокзале, как только дали первый звонок, началось обычное сражение, и носильщик, не раз уж описанный фельетонистом, невозмутимо подошёл к нему и предложил усадить «на какое пожелаете место, но не менее чем за 5 рублей». Обличитель нравов весь так и закипел изнутри, но немедленно согласился, решив отложить борьбу до другого, более удобного случая. Дела солдатские — Вишь ты, взвоз тут крутой, а метрах в двух от берега — обрыв, и течение сильное, особливо против завода Половникова, — Корней Иванович поднял четырёхпалую руку и резко опустил. — Сколько народу перетонуло, покуда устроили эту самую спасательную станцию! Да и теперича так и тянет всех в гиблое это место; на прошлой неделе шёл плотик с татарской семьёй, и маленькая девчонка вдруг свалилась ни с того, ни с сего. На воду поглядела — и свалилась! Еле откачали. — Гороховская? — Не-е, гороховские, они — учёные, да и то сказать: одного скота потеряли сколько! Тут, брат ты мой, всё больше проезжие тонут. — Ты, брат ты мой, окарауль здесь маленько, покуда я в лавку сбегаю... А то ведь и шагу отсель не ступить, а у меня вон махорка кончилась и всякое такое. Ты, брат, главное, глаз с воды не спускай! Глаз-то у тебя, небось вострый ишо? Горохову-то отсель видишь в подробностях, али как? Арсенин чуть сощурил глаза — и вдруг ясно разглядел пламя над крышей дома, плотно вставшего к целому ряду маленьких, на грибки похожих домов. — Ой, загорелось, что ли? — Арсений, закрывшись ладонями от солнца, снова начал вглядываться, но Корней уже бросился к недавно установленному на спасательной станции телефону. Пожарный обоз отстоял большую часть усадеб. Отстоял бы и больше, да вода кончилась. Разгорячённые добровольцы, съезжая к реке, вовремя не притормозили, враз проскочили мелкую воду — и в обрыв! Арсений и подумать ничего не успел, как был уже подле лошадей, освобождая их и подталкивая к берегу. Корней командовал отловом бочек, деловито переругивался с пожарными, а на племянника и не смотрел — не сомневался, что тот сделает всё, как надо. Поздно вечером, отпиваясь смородиновым чаем, Корней Иванович вздыхал печально: — У нас с Настей (уж не знаю, почто) одна только бабья мелочь и рожалась, да и та по уезду рассыпалась — не видать. Ну а сына-то и не рожалось никогда. А как Настя померла, так один я тут и живу. А силушка-то уж убывать начала... Ты-то, брат, возвернёшься в деревню или как? Корней не знал, что Арсений овдовел ещё год назад. Вернувшись с фронта одним из последних, он нашёл у себя в усадьбе семью переселенцев, новые прясла и чужую косматую собаку, впрочем, не облаявшую его. Крестьянский начальник смотрел немного виновато, обещал приезжих переселить; Арсений же всё отмалчивался и после кладбища, не заходя домой, прошёл прямо к однополчанам. Те прибыли ещё полгода назад и первым делом решили посчитаться за «срезанные пособия». Но крестьянский начальник выказал твёрдость, представил «обчеству» и бумаги от губернатора, и закорючки, поставленные солдатками в денежных ведомостях. Запасные смутились и пригласили начальника «чаю выпить»; впрочем, угощение принял он на себя. Ну а дальше, как водится, пошли рассказы со слезой. То же повторилось и при встрече с Арсением — и он разом понял, что война задержится здесь, в деревне дольше, чем в городе. А ему хотелось стряхнуть с себя прошлое и успеть ещё подышать во всю грудь. Четыре дня спустя он ехал уже на перекладных в Иркутск — там, в Глазковском предместье, осел товарищ его, Семён Трегуба, такой же вдовец. В апреле, когда расставались, он сказал: «Ладно, может, ещё и свидимся» — и вот ранним майским вечером Арсений постучался к нему на квартиру. Проговорили почти всю ночь и встали уже к полудню, когда солнце палило вовсю. Семён предложил ехать на острова, и Арсений согласился. Накупавшись и отоспавшись в кустах, они вздумали ещё раз окунуться. Неподалёку расположилась компания из нескольких телеграфистов, офицера и дам. Все были очень весёлые, только один больно уж опьянел. Завидев проплывавшую лодку с двумя незнакомцами, он вдруг закричал: — Я знаю эту жидовскую харю! Он — агент охранного отделения! Он оскорбил мою жену! — и выхватив пистолет, не целясь, выстрелил. И угодил одному из катавшихся в ногу. Все закричали, забегали, стали отбирать пистолет, совершенно забыв о раненом. Наконец, офицер отправился за полицией, а пострадавшего поручил отвезти в больницу... двум солдатикам, вышедшим из кустов. Остальные пожелали оставаться для составления протокола. Раненый оказался приказчиком, рослым, крепким, но панически боявшимся крови. — Только в клинику фон Бергмана, никуда, кроме фон Бергмана! — умолял он, так ударяя на «фон», будто только в нём и было всё спасение. Клиника ослепила Арсения совершенно невозможной чистотой и белизной — притом что хозяин был арестован и совершенно не мог проследить за работниками. Узнав, что фон Бергмана сейчас нет, раненый страшно огорчился, но маленький, аккуратненький доктор, с любопытством осмотрев его рану, спокойно сообщил: — Опасности тут нет никакой: вас чрезвычайно удачно ранили. Что до господина фон Бергмана, то и тут беспокойство излишне: не таков он, чтобы задерживаться в неприятных местах. А Вам лучше на дачке отлежаться, только если она не у самой железной дороги, потому что там ведомство генерала Ласточкина и особые правила: перестрелок, пускай и словесных, решительно не допускается. Даже если сегодняшний ваш обидчик окажется ваш ближайший сосед, — доктор тоненько рассмеялся, чуть наклонившись к раненому и глядя ему в глаза. Приказчик поднял брови, но в этот самый момент его ловко переложили на каталку и повезли. А Арсений с Семёном остались в недоумении, дожидаться ли, когда доктор выйдет опять, или встать да пойти. Пока они переглядывались, в приёмном покое продолжался неспешный разговор двух дежурных: — Вот, земля оттаяла, и инженер Кравец опять улавливает прохожих в свои водопроводные канавы. — Теперь, дай Бог, разберутся: Закревский из канцелярии генерал-губернатора проезжал с супругою по Большой, и между Набережной и Троицкой лошадь свалилась в канаву, неосвещённую и неогороженную. Женщина юбками зацепилась за крюк и оттого повредилась поменьше, а Закревский, тот, говорят, и сидеть не может совсем — так и стоит все присутственные часы. На другой день Арсений с Семёном битые два часа отсидели в полицейской части, объясняя, когда услышали выстрел, что видели до него, и нельзя ли было как-нибудь догадаться, что телеграфист имеет оружие. Когда они уходили, полицейский попридержал Арсения и велел явиться на другое утро. Встречен был приветливо и сразу представлен господину, сидевшему со связкой бумаг на коленях. Тот молча кивнул, достал деньги, заранее отсчитанные, и, отдав их Арсению, распорядился ходить по Большой, покуда не раздаст все листки. «Русские люди, объединяйтесь!» — только и успел пробежать Арсений, как был поднят со стула: — Надо управиться до обеда! Но поначалу не заладилось: Арсений ходил вдоль тротуара, заглядывая прохожим в глаза и чуть приостанавливаясь перед каждым — в ожидании, что кто-нибудь да протянет же руку. Мальчишки-газетчики принялись передразнивать его, но один (видно, что не из деревенских) пожалел и, шепнув необидно «Смотри, пехота!», выскочил на середину тротуара: — Прокламация Русского Собрания: специальный выпуск против иркутских кадетов! Новые факты, знакомые незнакомцы! Увлекательно и совершенно бесплатно! Арсений только успевал раздавать налево-направо, а самый распоследний листок достался вежливому господину с прищуренным глазом. — И это есть наша «беспартийная армия»? — только и сказал он, но Арсений смутился. Господин рассмеялся и любезно предложил за ним следовать, так что минут десять спустя Арсений сидел уже на большом диване в окружении совершенно незнакомых людей. Они тотчас определили гостя «жертвой лживой и безграмотной пропаганды». Потом напоили чаем с сахаром и белым хлебом, всё время расспрашивая про войну. Кончилось же тем, что Арсению предложили продать пачку «Сибирского обозрения», и на другое утро он стоял уже на углу Большой и Ивановской. И подражая мальчишкам, предлагал: «Проект ответного адреса! Читайте проект ответного адреса»! Но что это за адрес такой — пока не разобрался. Многие (особенно женщины из простых) останавливались и спрашивали: «Ну, как там Дума: укрепится или нет?» А какой-то бойкий мужичок посоветовал ехать на вокзал: «Пассажиры, они как рассядутся, так уже из вагонов и не выходят — места боятся потерять. А газетку-то взять в дорогу хочется — вот тут ты и подойди, и подай»! И правда: только-только Арсений пошёл вдоль поезда, как потянулись к нему руки с мелочью. И всё б хорошо, да только, продав один номер, столкнулся он с жандармским офицером. Посмотрев на газету, тот поморщился и отправил Арсения в полицейскую часть «для удостоверения личности». Выпустили его только лишь через сутки и без газет, а когда он вернулся к Семёну на квартиру, то узнал: товарища ещё вчера арестовали. Семён помнил, что поехал на острова с двумя казаками, Оглоблиным и Южаковым, а как вышло, что он ограбил их — Бог весть. Перед самым разбором этого дела в военно-окружном суде Оглоблину удалось сбежать, Семёна же доставили вместе с Южаковым, но от расстройства он выглядел совершенно больным — и заседание решили перенести. На другой день сначала судили поручика 20 дружины государственного ополчения Пименова, дурно отозвавшегося о своём командире в письме, а также унтер-офицера Матвея Цацулина, «оскорбившего начальника на словах при исполнении им служебных обязанностей». Первого оправдали, а вот второго лишили звания, узкого серебряного шеврона на мундире и приговорили к одиночному заключению на три месяца, с переводом в разряд штрафников. Цацулин злился, кричал, что его «засудили, потому как нынче такие гонения». Однако защищавший его капитан Иртегов спокойно возражал, что не в политике дело, а в одной из статей Свода военных постановлений, принятого ещё в 1869 году. В перерыве Арсений стал читать обрывок «Сибирского обозрения», затерявшегося у него в кармане, и между прочим узнал, что министр путей сообщения издал специальный циркуляр, коим и предлагает принимать на свободные должности отставных и запасных воинских чинов, участвовавших в войне с Японией. Вскоре он получил место ремонтного рабочего. — Смотри, не забалуй, — напутствовал новый начальник, — а то ведь предшественник твой и места лишился из-за баловства. — Много, знать, выпивал? — Да нет, в этом вовсе не был замечен. Только он и трезвый был хлеще пьяного! Дело, как выяснилось, было так: 28 апреля, вечером начальник станции Товстолес ехал верхом по насыпи железной дороги. Делал это он почти ежедневно и иногда задевал бровку дороги, на которой работал ремонтник Смагин. На этот раз возмущённый пролетарий сделал начальнику замечание да ещё и ударил его метлой! На станции долго обсуждали случившееся, и хотя Смагина не любили, общее мнение было таково, что не следовало Товстолесу вмешивать в это дело жандармов. — Да как же у них позапутано тут! — сокрушался Арсений. — Но всё не такая тоска, как в деревне. Тэги: |











